Марина Цветаева. СТИХИ К ДОЧЕРИ (Сб. ПСИХЕЯ. РОМАНТИКА)
*
* *
Облака – вокруг,
Купола – вокруг,
Надо всей
Москвой
Сколько хватит
рук! –
Возношу тебя,
бремя лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!
В дивном граде
сем,
В мирном граде
сем,
Где и мертвой –
мне
Будет радостно,
–
Царевать тебе,
горевать тебе,
Принимать венец,
О мой первенец!
Ты постом говей,
Не сурьми бровей
И все сорок –
чти –
Сороков церквей.
Исходи пешком –
молодым шажком! –
Все привольное
Семихолмие.
Будет твóй
черед:
Тоже – дочери
Передашь Москву
С нежной
горечью.
Мне же вольный
сон, колокольный звон,
Зори ранние –
На Ваганькове.
31 марта 1916
*
* *
Четвертый год.
Глаза, как лед,
Брови уже
роковые,
Сегодня впервые
С кремлевских
высот
Наблюдаешь ты
Ледоход.
Льдины, льдины
И купола.
Звон золотой,
Серебряный звон.
Руки скрещены,
Рот нем.
Брови сдвинув –
Наполеон! –
Ты созерцаешь –
Кремль.
– Мама, куда –
лед идет?
– Вперед,
лебеденок.
Мимо дворцов,
церквей, ворот –
Вперед,
лебеденок!
Синий
Взор – озабочен.
– Ты меня
любишь, Марина?
– Очень.
– Навсегда?
– Да.
Скоро – закат,
Скоро – назад:
Тебе – в
детскую, мне –
Письма читать
дерзкие,
Кусать рот.
А лед
Всё
Идет.
24 марта 1916
*
* *
По дорогам, от
мороза звонким,
С царственным
серебряным ребенком
Прохожу. Всё –
снег, всё – смерть, всё – сон.
На кустах
серебряные стрелы.
Было у меня
когда-то тело,
Было имя, – но
не все ли – дым?
Голос был,
горячий и глубокий…
Говорят, что тот
голубоокий,
Горностаевый
ребенок – мой.
И никто не видит
по дороге,
Что давным-давно
уж я во гробе
Досмотрела свой
огромный сон.
15 ноября 1916
*
* *
– Марина!
Спасибо за мир!
Дочернее
странное слово.
И вот –
расступился эфир
Над женщиной
светлоголовой.
Но рот напряжен
и суров.
Умру, – а
восторга не выдам!
Так с неба
Господь Саваоф
Внимал молодому
Давиду.
Cтрастной понедельник 1918
*
* *
Не знаю, где ты
и где я.
Те ж песни и те
же заботы.
Такие с тобою
друзья!
Такие с тобою
сироты!
И так хорошо нам
вдвоем:
Бездомным,
бессонным и сирым…
Две птицы: чуть
встали – поём.
Две странницы: кормимся
миром.
*
* *
Дорожкою
простонародною,
Смиренною,
богоугодною,
Идем –
свободные, немодные,
Душой и телом –
благородные.
Сбылися древние
пророчества:
Где вы –
Величества? Высочества?
Мать с дочерью
идем – две странницы.
Чернь черная
навстречу чванится.
Быть может –
вздох от нас останется,
А может – Бог на
нас оглянется…
Пусть будет –
как Ему захочется:
Мы не
Величества, Высочества.
Так, скромные,
богоугодные,
Душой и телом –
благородные,
Дорожкою
простонародною –
Так, доченька, к
себе на родину:
В страну Мечты и
Одиночества –
Где мы –
Величества, Высочества.
<1919>
*
* *
Молодой
колоколенкой
Ты любуешься – в
воздухе.
Голосок у ней
тоненький,
В ясном куполе –
звездочки.
Куполок твой
золотенький,
Ясны звезды –
под лобиком.
Голосочек твой
тоненький,
Ты сама
колоколенка.
Октябрь 1918
*
* *
В шитой серебром
рубашечке,
– Грудь как
звездами унизана! –
Голова –
цветочной чашечкой
Из серебряного
выреза.
Очи – два
пустынных озера,
Два Господних
откровения –
На лице,
туманно-розовом
От Войны и
Вдохновения.
Ангел – ничего –
всё! – знающий,
Плоть – былинкою
довольная,
Ты отца
напоминаешь мне –
Тоже Ангела и
Воина.
Может – всё мое
достоинство –
За руку с тобою
странствовать.
– Помолись о
нашем Воинстве
Завтра утром, на
Казанскую!
18 июля 1919
*
* *
Упадешь –
перстом не двину.
Я люблю тебя как
сына.
Всей мечтой
своей довлея,
Не щадя и не
жалея.
Я учу: губам
полезно
Раскаленное
железо,
Бархатных ковров
полезней –
Гвозди – молодым
ступням.
А еще в ночи
беззвездной
Под ногой –
полезны – бездны!
Первенец мой
крутолобый!
Вместо всей моей
учебы –
Материнская
утроба
Лучше – для тебя
была б.
Октябрь 1919
*
* *
Когда-нибудь,
прелестное созданье,
Я стану для тебя
воспоминаньем.
Там, в памяти
твоей голубоокой,
Затерянным – так
далеко – далёко.
Забудешь ты мой
профиль горбоносый,
И лоб в апофеозе
папиросы,
И вечный смех
мой, коим всех морочу,
И сотню – на
руке моей рабочей –
Серебряных
перстней, – чердак – каюту,
Моих бумаг
божественную смуту…
Как в страшный
год, возвышены Бедою,
Ты – маленькой
была, я – молодою.
*
* *
Консуэла! –
Утешенье!
Люди добрые, не
сглазьте!
Наградил второю
тенью
Бог меня – и
первым счастьем.
Видно с ангелом
спала я,
Бога приняла в
объятья.
Каждый час
благословляю
Полночь твоего
зачатья.
И ведет меня –
до сроку –
К Богу – по дороге
белой –
Первенец мой
синеокий:
Утешенье! –
Консуэла!
Ну, а раньше –
стать другая!
Я была
счастливой тварью!
Все мой дом
оберегали, –
Каждый под
подушкой шарил!
Награждали – как
случалось:
Кто – улыбкой,
кто – полушкой…
А случалось –
оставалось
Даже сердце под
подушкой!.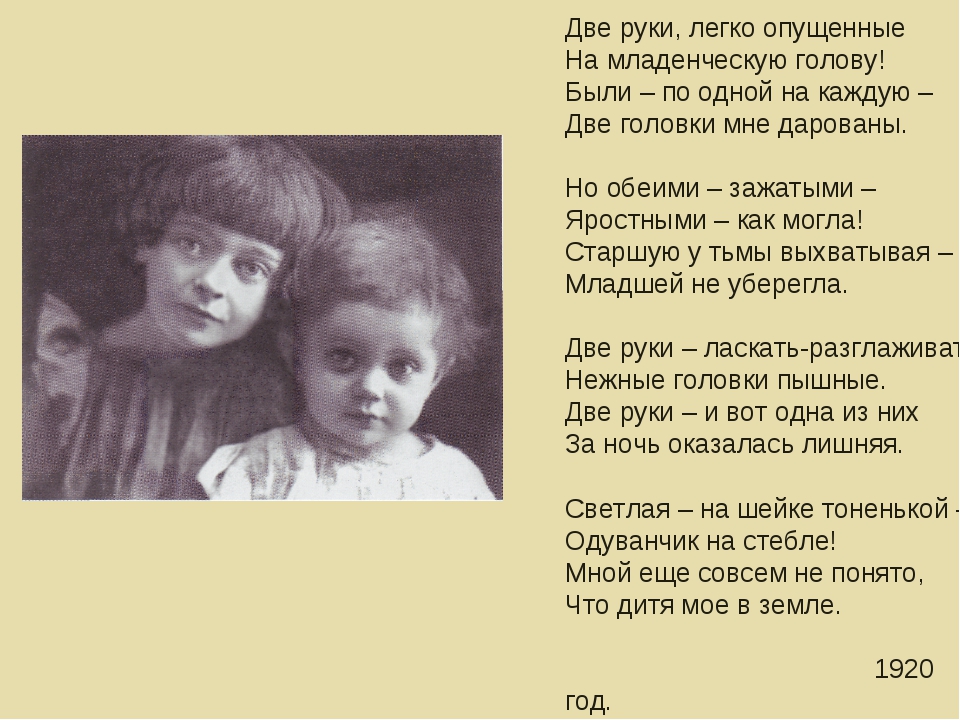 .
.
Времячко мое
златое!
Сонм чудесных
прегрешений!
Всех вас вымела
метлою
Консуэла –
Утешенье.
А чердак мой
чисто мéтен,
Сор подобран –
на жаровню.
Смерть хоть сим
же часом встретим:
Ни сориночки
любовной!
– Вор! –
Напрасно ждешь! – Не выйду!
Буду спать, как
повелела
Мне – от всей
моей Обиды
Утешенье –
Консуэла!
Москва, октябрь 1919
Смерть Ирины. Марина Цветаева
Смерть Ирины
Ирина оказалась для матери скорее обузой, чем радостью. По-видимому, она родилась не совсем здоровым ребенком. А постоянное недоедание, холод, отсутствие надлежащего ухода не способствовали сколько-нибудь правильному развитию. Ирина росла болезненной, слабой, едва ходила и почти не умела говорить. В нее невозможно было ничего «вкачать», с нею не было интересно, как с Алей, а потом с Муром, ею нельзя было хвастаться. В воспоминаниях людей, встречавшихся тогда с Цветаевой, имя Ирины почти не упоминается. М. И. Гринева-Кузнецова, много рассказывая об Але, Ирине уделила пять строк: «Я заглядываю в первую (три шага от входа) комнату: там кроватка, в которой в полном одиночестве раскачивается младшая дочь Марины – двухлетняя Ирочка. Раскачивается – и напевает: без каких-нибудь слов – только голосом, но удивительно осмысленно и мелодично». Примечание М. И. Гриневой: «От рождения слабая и болезненная, Ирина Эфрон зимой 1920 года умерла от голода». И всё. Вера Клавдиевна Звягинцева, подружившаяся с Цветаевой летом 1919 года, часто с ней встречавшаяся, об Ирине услышала, когда однажды осталась ночевать в Борисоглебском: «Всю ночь болтали, Марина читала стихи… Когда немного рассвело, я увидела кресло, все замотанное тряпками, и из тряпок болталась голова – туда-сюда. Это была младшая дочь Ирина, о существовании которой я до сих пор не знала. Марина куда-то ее отдала в приют, и она там умерла»[103]. Звягинцева тоже помнила об изумительном голоске Ирины.
М. И. Гринева-Кузнецова, много рассказывая об Але, Ирине уделила пять строк: «Я заглядываю в первую (три шага от входа) комнату: там кроватка, в которой в полном одиночестве раскачивается младшая дочь Марины – двухлетняя Ирочка. Раскачивается – и напевает: без каких-нибудь слов – только голосом, но удивительно осмысленно и мелодично». Примечание М. И. Гриневой: «От рождения слабая и болезненная, Ирина Эфрон зимой 1920 года умерла от голода». И всё. Вера Клавдиевна Звягинцева, подружившаяся с Цветаевой летом 1919 года, часто с ней встречавшаяся, об Ирине услышала, когда однажды осталась ночевать в Борисоглебском: «Всю ночь болтали, Марина читала стихи… Когда немного рассвело, я увидела кресло, все замотанное тряпками, и из тряпок болталась голова – туда-сюда. Это была младшая дочь Ирина, о существовании которой я до сих пор не знала. Марина куда-то ее отдала в приют, и она там умерла»[103]. Звягинцева тоже помнила об изумительном голоске Ирины.
Цветаева была трудной матерью – не только Ирине, но всем троим своим детям. Или поэтический дар, внутренняя одержимость не оставляют места для терпеливого спокойствия и уравновешенности, так необходимых в повседневном общении с детьми? Она мешала им то стремлением создать, даже пересоздать ребенка по-своему, как Алю, то равнодушием, как к Ирине, то исступленной любовью, как к Муру. Не случись революции, имей она возможность растить детей по-старому, их судьбы сложились бы более обычно и счастливо. Но в ситуации, когда она оказалась перед необходимостью самой кормить, обихаживать и воспитывать детей, Цветаева не смогла быть «просто матерью». Анастасия Цветаева вспоминала, как, вернувшись весной 1921 года в Москву после четырехлетнего отсутствия, она ужаснулась тому запустению, беспорядку и грязи, которыми зарос дом сестры. Воспользовавшись ее отсутствием, она начала приводить все в порядок; мыть, чистить, гладить… И вместо благодарности услышала от вернувшейся домой Марины: «Мне это совершенно не нужно!.. Не трать своих сил!» Ей показалось, что сестра восприняла ее желание помочь как обиду.
Или поэтический дар, внутренняя одержимость не оставляют места для терпеливого спокойствия и уравновешенности, так необходимых в повседневном общении с детьми? Она мешала им то стремлением создать, даже пересоздать ребенка по-своему, как Алю, то равнодушием, как к Ирине, то исступленной любовью, как к Муру. Не случись революции, имей она возможность растить детей по-старому, их судьбы сложились бы более обычно и счастливо. Но в ситуации, когда она оказалась перед необходимостью самой кормить, обихаживать и воспитывать детей, Цветаева не смогла быть «просто матерью». Анастасия Цветаева вспоминала, как, вернувшись весной 1921 года в Москву после четырехлетнего отсутствия, она ужаснулась тому запустению, беспорядку и грязи, которыми зарос дом сестры. Воспользовавшись ее отсутствием, она начала приводить все в порядок; мыть, чистить, гладить… И вместо благодарности услышала от вернувшейся домой Марины: «Мне это совершенно не нужно!.. Не трать своих сил!» Ей показалось, что сестра восприняла ее желание помочь как обиду. И сама она была обижена: «один вопрос не смолкал: в чем же разница наша? Разве меньше пережила я в огне гражданской войны, в голодных болезнях, в утрате моих самых близких?»[104] Разница была в том, что Марина была поэтом. Вмещая весь мир, ее душа не могла вместить еще и быта: подметания полов, мытья посуды, глаженья. Она делала все это – но лишь в пределах самой неизбежной необходимости. Так было и с детьми: там, где дело касалось души, Цветаева готова была давать и «вкачивать», но в быту ее возможности были ниже возможностей самой средней матери. А Ирина, как каждый больной, особенно больной ребенок, требовала забот, внимания, привязывала к дому. С Алей можно было бывать всюду: в Студии, в гостях, на литературных вечерах – но так ли необходимо это семи – девятилетнему ребенку?.. Уходя, Марина и Аля часто привязывали Ирину к креслу, чтобы не упала. Вероятно, Цветаева любила и жалела свою младшую девочку, но временами Ирина раздражала мать и сестру, была им в тягость. Возможно, и это сыграло роль в том, что близкие начали уговаривать Цветаеву отдать дочерей в приют – на время, конечно.
И сама она была обижена: «один вопрос не смолкал: в чем же разница наша? Разве меньше пережила я в огне гражданской войны, в голодных болезнях, в утрате моих самых близких?»[104] Разница была в том, что Марина была поэтом. Вмещая весь мир, ее душа не могла вместить еще и быта: подметания полов, мытья посуды, глаженья. Она делала все это – но лишь в пределах самой неизбежной необходимости. Так было и с детьми: там, где дело касалось души, Цветаева готова была давать и «вкачивать», но в быту ее возможности были ниже возможностей самой средней матери. А Ирина, как каждый больной, особенно больной ребенок, требовала забот, внимания, привязывала к дому. С Алей можно было бывать всюду: в Студии, в гостях, на литературных вечерах – но так ли необходимо это семи – девятилетнему ребенку?.. Уходя, Марина и Аля часто привязывали Ирину к креслу, чтобы не упала. Вероятно, Цветаева любила и жалела свою младшую девочку, но временами Ирина раздражала мать и сестру, была им в тягость. Возможно, и это сыграло роль в том, что близкие начали уговаривать Цветаеву отдать дочерей в приют – на время, конечно. Главный резон был, что там топят и кормят; приют в Кунцеве считался образцовым и снабжался американскими продуктами АРА. Необходимо было пережить наступающую зиму 1919/20 года, и было очевидно, что Цветаева не в состоянии обогреть и прокормить детей. Она понимала это яснее других и в середине ноября отдала их в Кунцево. Она очень тосковала – по Але. Читая написанное тогда стихотворение, не догадаешься, что у Цветаевой двое детей:
Главный резон был, что там топят и кормят; приют в Кунцеве считался образцовым и снабжался американскими продуктами АРА. Необходимо было пережить наступающую зиму 1919/20 года, и было очевидно, что Цветаева не в состоянии обогреть и прокормить детей. Она понимала это яснее других и в середине ноября отдала их в Кунцево. Она очень тосковала – по Але. Читая написанное тогда стихотворение, не догадаешься, что у Цветаевой двое детей:
Маленький домашний дух,
Мой домашний гений!
Вот она, разлука двух
Сродных вдохновений!
Жалко мне, когда в печи
Жар, – а ты не видишь!
В дверь – звезда в моей ночи! —
Не взойдешь, не выйдешь!
Логически объяснить это можно: Аля изливала на мать огромную энергию любви, поддерживавшую, помогавшую жить. Но понять и принять равнодушие Цветаевой к другому – больному – ребенку трудно.
В те времена Кунцево – неближний край, далекий загород. Транспорта не было, навещать детей приходилось редко. Когда примерно через месяц Цветаева приехала проведать дочерей, она застала Алю тяжелобольной, чуть ли не при смерти. Она схватила ее, на каких-то попутных санях довезла до дому и начала бороться за ее жизнь. Болезнь тянулась больше двух месяцев, врачи не могли поставить диагноз, температура почти постоянно приближалась к критической. Отчаяние и надежда Цветаевой колебались между десятыми долями градуса. Стихи не приходили, эта немота угнетала. Ходасевич сказал ей, что в ЛИТО – советские учреждения с такими странно-звучащими названиями стали появляться десятками, это означало: Литературный отдел – можно продать рукопись книги. И хотя во главе ЛИТО стоял Валерий Брюсов, давний недоброжелатель, и было мало надежды, что он захочет издать ее книгу, Цветаева решилась попробовать. Она не издавалась больше шести лет и стала собирать стихи тринадцатого – пятнадцатого годов. Естественно возникло название нового сборника – «Юношеские стихи». Цветаеву захватила работа. Воспоминания о том неправдоподобно-счастливом времени, о людях, к которым она влеклась, от которых отталкивалась, которые вошли в ее стихи, захлестнули ее и помогали держаться.
Она схватила ее, на каких-то попутных санях довезла до дому и начала бороться за ее жизнь. Болезнь тянулась больше двух месяцев, врачи не могли поставить диагноз, температура почти постоянно приближалась к критической. Отчаяние и надежда Цветаевой колебались между десятыми долями градуса. Стихи не приходили, эта немота угнетала. Ходасевич сказал ей, что в ЛИТО – советские учреждения с такими странно-звучащими названиями стали появляться десятками, это означало: Литературный отдел – можно продать рукопись книги. И хотя во главе ЛИТО стоял Валерий Брюсов, давний недоброжелатель, и было мало надежды, что он захочет издать ее книгу, Цветаева решилась попробовать. Она не издавалась больше шести лет и стала собирать стихи тринадцатого – пятнадцатого годов. Естественно возникло название нового сборника – «Юношеские стихи». Цветаеву захватила работа. Воспоминания о том неправдоподобно-счастливом времени, о людях, к которым она влеклась, от которых отталкивалась, которые вошли в ее стихи, захлестнули ее и помогали держаться. Повседневность отодвигалась, работа отгораживала от мыслей о бродящей поблизости смерти.
Повседневность отодвигалась, работа отгораживала от мыслей о бродящей поблизости смерти.
Было страшно за Алю, страшно думать об Ирине. Среди близких шли разговоры, что надо забрать ее из приюта – но как и куда? Кто будет ухаживать за двумя больными детьми? В комнате Цветаевой по утрам было всего 4—5 градусов тепла по Цельсию, хотя она топила даже по ночам. Можно ли держать детей в таком холоде? Есть свидетельства, что сестры С. Я. Эфрона хотели забрать Ирину к себе с условием – навсегда. На это Цветаева не соглашалась, были какие-то трения между нею и сестрами мужа. Теперь уже трудно рассудить, кто был более прав, – да и стоит ли? Лиля Эфрон собиралась взять Ирину в деревню, где она работала в Народном доме. Но разве могла бы она, сама совершенно беспомощная, справиться с больным ребенком?
Между тем время шло, подошел новый 1920 год, который Цветаева встретила вдвоем с А. С. Ерофеевым – мужем своей приятельницы, актрисы и поэтессы Веры Звягинцевой. Звягинцева ушла на встречу в свой театр, а мужа оставила с подругой и бутылочкой вина – в их кругу это было вполне принято. Как всегда под Новый год хотелось думать о хорошем и желать друг другу «нового счастья». Через три дня Цветаева подарила Ерофееву стихотворение, посвященное их новогодней встрече:
Как всегда под Новый год хотелось думать о хорошем и желать друг другу «нового счастья». Через три дня Цветаева подарила Ерофееву стихотворение, посвященное их новогодней встрече:
Поцеловала в голову,
Не догадалась – в губы!
А все ж – по старой памяти —
Ты хороша, Любовь!
Немножко бы веселого
Вина, – да скинуть шубу, —
О как – по старой памяти —
Ты б загудела, кровь!
Можно представить себе молодых мужчину и женщину, встречающих Новый год в таком холодном доме, что не решаешься снять шубу, и весело иронизирующих над этим. В следующих строфах Цветаева рисует Венеру с топором в руках, «громящую» подвал на дрова, и Амура, который «свои два крылышка на валенки сменял». Она просит Амура, чтобы он не покидал ее навсегда – ведь «чумной да ледяной ад» пройдет и жизнь будет продолжаться!
Прелестное создание!
Сплети ко мне веревочку,
Да сядь – по старой памяти —
К девчонке на кровать.
– До дальнего свидания! —
Доколь опять научимся
Получше, чем в головочку
Мальчишек целовать.
Легкость и грациозность этих стихов не соответствует ситуации, в которой живет Цветаева, но она может отрешиться от реальности и уйти в стихи. «Мой Авантюризм, легкое отношение к трудностям», – определяла она. По стихам может показаться, что девятнадцатый год и впрямь ушел. Но «самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы» еще тянулся и кончился трагически: 2 или 3 февраля (в двух местах Цветаева указала разные даты) 1920 года умерла Ирина.
Цветаева неожиданно услышала об этом в Лиге спасения детей, и у нее не хватило душевных сил поехать проститься с умершей дочерью. Временами она страшилась возможности такого исхода, но все равно была оглушена и раздавлена и долго скрывала от Али смерть сестры. Цветаева понимала, что окружающие осуждают и винят ее. Отголоски этого я нашла в переписке Юлии Оболенской с Магдой Нахман, которая сообщала: «Умерла в приюте Сережина дочь – Ирина, слышала ты?.. Лиля хотела взять Ирину сюда и теперь винит себя в ее смерти. Ужасно жалко ребенка – за два года земной жизни ничего, кроме голода, холода и побоев». Страшно читать о побоях, но нет оснований обвинить Нахман в предвзятости. Из семьи, близкой в то время цветаевской, дошли до наших дней слухи, что Аля относилась к Ирине пренебрежительно. И не отзвуком ли этого звучат в Алиной записи слова: «Марина маленьких детей не любит»? Каких, кроме Ирины, маленьких детей видела Аля с Мариной? Среди знакомых не было секретом отношение Цветаевой к младшей дочери. Н. Я. Мандельштам говорила мне, как были потрясены они с Мандельштамом, когда Цветаева показала им, каким образом она привязывала Ирину «к ножке кровати в темной комнате». Оболенская откликнулась на письмо Нахман: «Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать: к чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лиле бы не отдали. Лиля затратила бы последние силы только на отсрочку ее страданий. Нет: так лучше. Но думая о Сереже, я так понимаю Лилю.
Ужасно жалко ребенка – за два года земной жизни ничего, кроме голода, холода и побоев». Страшно читать о побоях, но нет оснований обвинить Нахман в предвзятости. Из семьи, близкой в то время цветаевской, дошли до наших дней слухи, что Аля относилась к Ирине пренебрежительно. И не отзвуком ли этого звучат в Алиной записи слова: «Марина маленьких детей не любит»? Каких, кроме Ирины, маленьких детей видела Аля с Мариной? Среди знакомых не было секретом отношение Цветаевой к младшей дочери. Н. Я. Мандельштам говорила мне, как были потрясены они с Мандельштамом, когда Цветаева показала им, каким образом она привязывала Ирину «к ножке кровати в темной комнате». Оболенская откликнулась на письмо Нахман: «Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать: к чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лиле бы не отдали. Лиля затратила бы последние силы только на отсрочку ее страданий. Нет: так лучше. Но думая о Сереже, я так понимаю Лилю. Но она совсем не виновата»[105]. Имя матери даже не упоминается в связи со смертью ребенка. В этом нарочитом умолчании («умерла Сережина дочь»), в жалости к отцу только, в мимоходом произнесенных словах о побоях и «зачем было жить», в сдержанности тона – жестокое осуждение Цветаевой. Она и сама винила себя в смерти дочери, теперь ей казалось, что она сделала не все, что могла бы, чтобы спасти Ирину. «Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой Авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не веришь, что другому трудно…» Это признание – из писем к Звягинцевой и Ерофееву. Цветаева знала, что эти новые друзья ей глубоко сочувствуют. В первые дни после Ирининой смерти она написала им два письма – вопли о помощи, о жалости, о сострадании. Первое, что в них потрясает: над свежей детской могилой у матери почти нет памяти об Ирине и жалости к ней и о ней. Во сне Ирина приходит к ней живая, Цветаева внутренне не приняла ее смерть, это тем легче, что она не видела Ирину мертвой.
Но она совсем не виновата»[105]. Имя матери даже не упоминается в связи со смертью ребенка. В этом нарочитом умолчании («умерла Сережина дочь»), в жалости к отцу только, в мимоходом произнесенных словах о побоях и «зачем было жить», в сдержанности тона – жестокое осуждение Цветаевой. Она и сама винила себя в смерти дочери, теперь ей казалось, что она сделала не все, что могла бы, чтобы спасти Ирину. «Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой Авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не веришь, что другому трудно…» Это признание – из писем к Звягинцевой и Ерофееву. Цветаева знала, что эти новые друзья ей глубоко сочувствуют. В первые дни после Ирининой смерти она написала им два письма – вопли о помощи, о жалости, о сострадании. Первое, что в них потрясает: над свежей детской могилой у матери почти нет памяти об Ирине и жалости к ней и о ней. Во сне Ирина приходит к ней живая, Цветаева внутренне не приняла ее смерть, это тем легче, что она не видела Ирину мертвой. Она радуется, что Ирина – во сне – жива. Но живых воспоминаний о дочке: какая она была хорошая, как делала то-то и говорила то-то, как радовалась или плакала – нет. Панический страх за Алю и жалость к себе – вот чувства, кричащие со страниц этих писем: «И – наконец – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь – и вот Бог наказал…» – как будто Ирины и тогда не было. «С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто – просто – не жалеет, чувствую все, что обо мне думают, это тяжело… – Никто не думает о том, что я ведь тоже человек…»
Она радуется, что Ирина – во сне – жива. Но живых воспоминаний о дочке: какая она была хорошая, как делала то-то и говорила то-то, как радовалась или плакала – нет. Панический страх за Алю и жалость к себе – вот чувства, кричащие со страниц этих писем: «И – наконец – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь – и вот Бог наказал…» – как будто Ирины и тогда не было. «С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто – просто – не жалеет, чувствую все, что обо мне думают, это тяжело… – Никто не думает о том, что я ведь тоже человек…»
Самой тяжелой была мысль о Сереже, о том, как отнесется он к смерти Ирины, будет ли, как другие, винить ее, Марину, в этой смерти. Это переплеталось со страхом неизвестности о нем, о возможной его гибели и приводило к мысли о смерти: «самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я – без Ирины – вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла, – достойнее! – Мне стыдно, что я жива. – Как я ему скажу?» Что можно было ответить на такие письма? Звягинцева и Ерофеев заходили к ней, приносили что-нибудь поесть, Александр Сергеевич пилил на дрова чердачные балки; они часто приглашали Марину с Алей к себе. От полного отчаянья удерживала Цветаеву Аля, ее близость, необходимость спасти ее, заботиться о ней. Всю жизнь она нуждалась в ком-то, кому была бы необходима, – сейчас это была Аля.
– Как я ему скажу?» Что можно было ответить на такие письма? Звягинцева и Ерофеев заходили к ней, приносили что-нибудь поесть, Александр Сергеевич пилил на дрова чердачные балки; они часто приглашали Марину с Алей к себе. От полного отчаянья удерживала Цветаеву Аля, ее близость, необходимость спасти ее, заботиться о ней. Всю жизнь она нуждалась в ком-то, кому была бы необходима, – сейчас это была Аля.
Весь этот сложнейший комплекс переживаний не нашел непосредственного отражения в поэзии Цветаевой. Почти полная немота ее продолжалась, но и после того, как она кончилась, Цветаева не писала о смерти Ирины. Я думаю, отзвук Ирининой смерти слышен в цикле «Разлука», созданном через полтора года:
Ручонки, ручонки!
Напрасно зовете:
Меж нами – струистая лестница Леты.
Только однажды, три месяца спустя, Цветаева написала о смерти Ирины – чтобы самооправдаться. Это было необходимо, иначе трудно жить и ждать возвращения мужа. Она создает в стихах версию правдивую, из реальности скрывшую лишь одну деталь – ее равнодушие к Ирине. Этой версии впоследствии придерживалась и Ариадна Эфрон.
Этой версии впоследствии придерживалась и Ариадна Эфрон.
Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были – по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.
Но обеими – зажатыми —
Яростными – как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.
Две руки – ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки – и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.
Светлая – на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.
К теме выбора матерью между двумя дочерьми (здесь они названы Мусей и Асей) Цветаева вернулась в 1934 году в прозе «Сказка матери»: матери предложено выбрать, какой из дочерей жить, а какой умереть, она же предпочитает погибнуть вместе с детьми, но не выбирать. Как большинство сказок, и эта кончается счастливо: пораженный твердостью матери убийца-разбойник отступает, а героини остаются целы и невредимы. ..
..
Прошло немного времени, и Цветаева нашла для себя виноватых в смерти Ирины – сестер мужа. Она писала сестре Асе в Крым: «В феврале этого года умерла Ирина – от голоду – в приюте, за Москвой… Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные, – вообще все отступились… Если найдется след Сережи – пиши, что от воспаления легких». Почему Цветаева не хотела, чтобы муж знал правду? Щадила его или предполагала, что он не поверит, что его сестры были жестоки по отношению к его дочери? Еще через несколько месяцев она более подробно сообщала Волошиным: «Лиля и Вера в Москве, служат, здоровы, я с ними давно разошлась из-за их нечеловеческого отношения к детям, – дали Ирине умереть с голоду в приюте под предлогом ненависти ко мне. Это – достоверность». Но «достоверность» противоречит письмам к Звягинцевой и Ерофееву, где в первом порыве отчаянья и растерянности Цветаева писала, что Вера Эфрон, еще не зная о смерти Ирины, хочет забрать ее из приюта и что кормить Алю ей помогли бы родные мужа. Она приняла, может быть, бессознательно, оправдательную для себя версию, нимало не задумавшись о добром имени сестер Эфрон. И Сережа поверил; прошло несколько лет, прежде чем он узнал правду и восстановил отношения с сестрами.
И Сережа поверил; прошло несколько лет, прежде чем он узнал правду и восстановил отношения с сестрами.
Смерть ребенка произвела гнетущее впечатление в писательском кругу и заставила обратить внимание на положение Цветаевой. После гибели Ирины Цветаевой выхлопотали паек. Помощь пришла поздно для Ирины, но помогла спасти Алю. Теперь Цветаева ее не кормила, а пичкала.
* * *
Мысли и чувства Цветаевой обращались к мужу – чем дальше, тем больше. Надежда на неосуществившийся в 1917 году переезд в Крым не оставляла ее, ей казалось, что там она будет ближе к Сергею Яковлевичу. Еще и летом девятнадцатого года в предчувствии страшной зимы она думала об отъезде, но не уехала. Как бы она смогла проехать с детьми через страну, охваченную Гражданской войной? Позже, когда след Эфрона окончательно затерялся, Цветаева отказалась от идеи отъезда из Москвы, полагая, что только здесь, если он жив, муж сможет найти ее.
Дети были частью Сережи, смерть Ирины и страх за Алю обостряли ощущение неразрывной связи с ним, ответственности перед ним. Теряя детей, она боялась потерять право на мужа. Для Цветаевой было несомненно, что без Сережи и Али жизнь бессмысленна. «Я опять примеряюсь к смерти, – пишет она Звягинцевой, сообщая об ухудшении в ходе Алиной болезни. – …Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить». Смятением между жизнью и смертью пронизаны ее стихи о Гражданской войне. Они возникали в общем потоке одновременно со стихами и пьесами «театрального романа», романтикой вторых «Верст» и «Психеи», первой «русской» поэмой Цветаевой «Царь-Девица».
Теряя детей, она боялась потерять право на мужа. Для Цветаевой было несомненно, что без Сережи и Али жизнь бессмысленна. «Я опять примеряюсь к смерти, – пишет она Звягинцевой, сообщая об ухудшении в ходе Алиной болезни. – …Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить». Смятением между жизнью и смертью пронизаны ее стихи о Гражданской войне. Они возникали в общем потоке одновременно со стихами и пьесами «театрального романа», романтикой вторых «Верст» и «Психеи», первой «русской» поэмой Цветаевой «Царь-Девица».
Некоторое количество «белых» стихов Цветаевой было напечатано в различных альманахах и сборниках, она часто выступала с ними на литературных вечерах в самой разнообразной аудитории, не раз ее слушателями бывали красные курсанты. Ей нужен был заработок, молодежь жаждала поэзии. Белогвардейские стихи перед красногвардейцами – она воспринимала это как исполнение ею, женой белого офицера, долга чести. Ее выступления проходили с неизменным успехом. Позже Цветаева утверждала, что «современность (в русском случае – революционность) вещи не только в содержании, но иногда вопреки содержанию. .. Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: – их звучание». Именно этим объясняла она успех своих «белых» стихов у красных курсантов. Ее стихи передавали «шум времени», его темп и музыку: «…не о революции, а она: ее шаг». Это близко тому, что писал в начале Первой мировой войны В. Маяковский: «Можно не писать о войне, но надо писать войною!»[106] Само звучание Цветаевского стиха было поэтической революцией. И каждый был волен воспринять его по-своему: красные – как музыку революции, белые – контрреволюции.
.. Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: – их звучание». Именно этим объясняла она успех своих «белых» стихов у красных курсантов. Ее стихи передавали «шум времени», его темп и музыку: «…не о революции, а она: ее шаг». Это близко тому, что писал в начале Первой мировой войны В. Маяковский: «Можно не писать о войне, но надо писать войною!»[106] Само звучание Цветаевского стиха было поэтической революцией. И каждый был волен воспринять его по-своему: красные – как музыку революции, белые – контрреволюции.
В «Лебединый Стан»[107] вошли стихи с весны 1917-го по 31 декабря 1920 года; современность запечатлена здесь с исторической точностью. Читая «Лебединый Стан», вы чувствуете ясно обозначенный сюжет, логику и динамику его развития.
Открывается сборник вне хронологии стихотворением «На кортике своем – Марина…» – декларацией верности мужу и Белому делу. Потом идут как бы сторонние наблюдения: зарисовки живой реальности, реакция на сообщения газет, кусочки собственной жизни, чувства и мысли по поводу происходящего.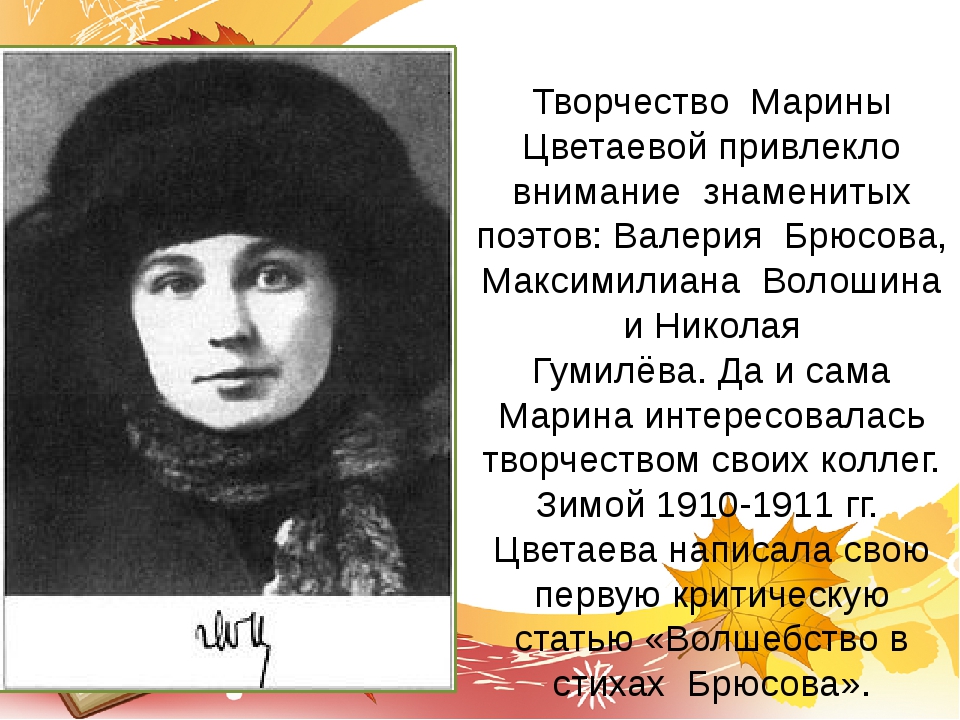 Возникает тема поруганной Москвы; затем – Белой Гвардии, Белого Дона – увы, с первого же стихотворения с мотивом праведности, но безнадежности… И – тема Поэта, его места в революции. Цветаева обращается к образу поэта Французской революции Андре Шенье, стихами боровшегося против якобинской диктатуры и погибшего под ножом гильотины. Естественно возникает противопоставление – «а я…»:
Возникает тема поруганной Москвы; затем – Белой Гвардии, Белого Дона – увы, с первого же стихотворения с мотивом праведности, но безнадежности… И – тема Поэта, его места в революции. Цветаева обращается к образу поэта Французской революции Андре Шенье, стихами боровшегося против якобинской диктатуры и погибшего под ножом гильотины. Естественно возникает противопоставление – «а я…»:
Андрей Шенье взошел на эшафот.
А я живу – и это страшный грех.
Есть времена – железные – для всех.
И не певец, кто в порохе – поет.
И не отец, кто с сына у ворот
Дрожа срывает воинский доспех.
Есть времена, где солнце – смертный грех.
Не человек – кто в наши дни – живет.
Сюжет сборника строится со все возрастающим драматизмом. Взгляд «со стороны» исчезает, события захлестывают поэта, Цветаева уже соучастница всего, что происходит с родиной. Постепенно Добровольчество персонифицируется, становится белым лебедем, «моим» белым лебедем: «Там у меня – ты знаешь? – белый лебедь…» Ангел, Воин, Сережа – любимый – тоска по нему, страх за него сплетаются с тоской и страхом за Россию, за Белое дело. Это и история, и любовное письмо, которое пишется, чтобы когда-нибудь, неведомыми путями достигнуть ушей, глаз, сердца любимого. С каждым уходящим месяцем это становится все менее вероятным. В записях Цветаевой рассказывается, как они с Алей бегают вниз к входной двери на каждый реальный или кажущийся стук – в безнадежном ожидании какой-нибудь весточки. «Лебединый Стан» все больше превращается в письмо в бутылке. В страшные «немые» дни февраля двадцатого года рождается стихотворение «Я эту книгу поручаю ветру…» – кульминация сборника. В нем голос Цветаевой достигает трагического звучания:
Я эту книгу поручаю ветру
И встречным журавлям.
Давным-давно – перекричать разлуку —
Я голос сорвала…
Как героини греческих трагедий обращались в пространство – к богам – к хору, так и Цветаева обращается в пространство – к природе – к ветру и птицам… Роль Рока из греческой трагедии выпала на долю Разлуки, роковой и непреодолимой. Разлука – разрыв – разминовение – эта тема пронзит последующее творчество Цветаевой. Сейчас она оборачивается не только личной трагедией, но выражает трагедию России. Я говорила, что у Цветаевой не было историософских взглядов, однако в «Лебедином Стане» ясно слышна тема разминовения России со своей историей. Цветаева обвиняет Петра Первого – конечно, она не первая, грозящее «ужо? тебе!» русская литература помнит со времен «Медного всадника». Но в цветаевских стихах «Петру» смысл обвинений другой, нежели был у Пушкина. Петр виноват в том, что повернул Россию по чужому пути, дал ей чужую судьбу – теперь это оборачивается гибелью России. Весь комплекс исторических ассоциаций в «Лебедином Стане» разворачивается в роковой, необратимый процесс, на наших глазах завершившийся гибелью:
– Россия! – Мученица! – С миром – спи!
Особое место занимает Ярославна – героиня «Слова о полку Игореве», вот уже восемь веков причитающая на городской стене Путивля. Лирическое «я» «Лебединого Стана» трансформируется: не Марина Цветаева скорбит и томится неизвестностью о муже, но Ярославна оплакивает Русь и русское воинство. И вот уже это – сама Россия, скорбящая о своих сыновьях. Лирическое «я» вновь является поэтом: в отличие от Ярославны Цветаева хочет не только оплакать Русь и всех погибших, но и стать летописцем этой трагедии. Вместо женственной кукушки, как называет Ярославну автор «Слова», лирическая героиня Цветаевой предстает журавлем («Я журавлем…»), летящим над полями сражений, чтобы собрать и запомнить все подробности…
Но и оплакать всех она считает своим долгом. Если в первые годы революции Цветаева была с теми, кто в данный момент побежден, против торжествующего победителя, то постепенно в стихах крепло убеждение, что в Гражданской войне победителей не будет. Поэт оплакивает всех – правых и виноватых – всех, погибших в братоубийственной войне. Трагическая панихида облечена в форму традиционной русской заплачки-причитания:
Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаясь причитает в поле – Русь.
Помогите – на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь-руда!
И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
– Мама!
И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева – и в чрево:
– Мама!
Все рядком лежат —
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?
Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белый стал:
Смерть побелила.
– Кто ты? – белый? – не пойму! – привстань!
Аль у красных пропадал? – Ря—зань…
Не только перед лицом смерти, но и перед лицом России все погибшие равны и правы, ибо каждый умер за нее, за ее счастье, по-своему понятое. Но кончить книгу причитанием было бы для Цветаевой противоестественно. В трагической ситуации она искала света. Она завершает «Лебединый Стан» стихотворением, написанным под новый, 1921 год. Гражданская война кончилась, большевики победили. Значительная часть Белой армии эвакуировалась через Турцию в Европу, остальные рассеялись по стране. Цветаева все еще ничего не знает о муже – он найдется лишь полгода спустя. Кажется, будущее страны уже определено, но собственное будущее Цветаевой и ее семьи туманно. Новогоднее стихотворение обращено к сподвижникам мужа, в первой публикации оно называлось «Тем, в Галлиполи»[108], – и к Сереже, если он жив и среди них:
С Новым Годом, Лебединый Стан!
Славные обломки!
С Новым Годом – по чужим местам —
Воины с котомкой!
С пеной у рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом – битая – в бегах
Родина с ладонью!
Приклонись к земле – и вся земля
Песнею заздравной.
Это, Игорь, – Русь через моря
Плачет Ярославной.
Томным стоном утомляет грусть:
– Брат мой! – Князь мой! – Сын мой!
– С Новым Годом, молодая Русь
За морем за синим!
Это – катарсис: Рок победил, но Долг выполнен до конца. Высокой нотой очищения кончается «Лебединый Стан». Надежда на мгновение победила отчаяние в душе Цветаевой.
Впрочем, об отчаянии ее мало кто догадывался. Наоборот, ее осуждали за многочисленные увлечения. Легко вообразить себе толки «кумушек»: муж где-то на войне, может, даже погиб, а она… И на самом деле, она многими увлекалась в эти годы, у нее были романы – как эфемерные, так и вполне реальные. Многим она написала стихи. «Комедьянт» Завадский, студийцы Алексеев и Антокольский, помощник Мейерхольда режиссер В. М. Бебутов, драматург В. М. Волькенштейн, начинающие поэты Е. Л. Ланн и Э. Л. Миндлин, князь С. М. Волконский, художник Н. Н. Вышеславцев, к которому обращен большой цикл стихов, мною условно названный «Спутник», красноармеец – «Стенька Разин», описанный в «Вольном проезде», другой красноармеец – Борис Бессарабов – к нему обращено стихотворение «Большевик», Алексей Александрович Стахович… А скольких мы, возможно, не знаем? Она была искательница. «Искательница приключений» сказано в стихах, но это неправда. Она искала не приключений, а душ – Душу – родную душу. Это ощущалось как жажда или голод, кидало от восторга к разочарованию, от одного увлечения к другому. «Ненасытим мой голод», – написала она в пятнадцатом году. В двадцатом призналась в интонации более драматической:
А все же по людям маюсь,
Как пес под луной…
И несколько месяцев спустя – с большой горечью: «Ненасытностью своею перекармливаю всех…» – мало кто мог выдержать напор ее дружбы, безудержного стремления отдать себя и постигнуть другого целиком. Это не был просто секс, может быть, совсем не секс или в каком-то ином качестве, простым смертным незнакомом. Цветаева тогда не раз повторяла, что «главная ее страсть – собеседничество. А физические романы необходимы, потому что только так проникаешь человеку в душу»[109]. Тело казалось лишь оболочкой души, с которой она жаждала слиться:
…Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!..
Если это и помогало, то ненадолго, и Цветаева вновь возвращалась к своему одиночеству. Оно было неизбежно, Марина это сознавала: всё в ее жизни начиналось и кончалось одиночеством. Поэзия была единственным доступным способом преодолеть его.
Десятилетия спустя Саломея Андроникова, дружившая с Цветаевой в эмиграции, сказала мне нечто, поразившее бы многих: «Марина вообще не была склонна к романам». Что же тогда были все ее увлечения, что бросало ее к людям, как голодного к хлебу? Возможно, в этом кроется одна из тайн поэтического творчества: увлечения были пищей поэзии. Косвенным подтверждением этого служит факт, что Цветаева с не меньшей страстью увлекалась теми, с кем «роман» в обычном понимании был невозможен, как со Стаховичем, с которым она была едва знакома и стихи которому написаны после его смерти, или с Волконским, о котором было известно, что он не интересуется женщинами. Обоим Цветаева посвятила изумительные – совсем не любовные – стихи. Может быть, в поэте существует определенный душевный вампиризм, примитивно принимаемый за формы секса? Увлечения Цветаевой следовали одно за другим; можно подумать, что от каждого – от большинства – она освобождалась стихами и переходила к следующему. Интересно, что многое из написанного в связи с такими встречами не имеет ни малейшего отношения к эротике. Возникает ощущение, что все эти «каждые» («Как я хотела, чтобы каждый цвел / В веках со мной!..») не только расковывали стихотворные потоки, но и утверждали Цветаеву в реальности собственного существования. Без них, возможно, оно казалось бы ей еще эфемернее. Зато, когда бывал исчерпан стиховой поток, «исчерпывался», становился ненужным и вызвавший его человек. Цветаева не только теряла интерес, но злословила или просто забывала адресатов своих стихов. Отсюда – нередкие у нее перепосвящения.
Н. Я. Мандельштам – вдова поэта, непосредственная свидетельница того, как «делаются» стихи, – пыталась проникнуть в тайну связи поэзии и секса: «Есть таинственная связь стихов с полом, до того глубокая, что о ней почти невозможно говорить… Особое напряжение поэзии, ее чувственная и профетическая природа гораздо больше меняет человека, чем другие искусства и наука»[110]. «Измену» стихами сам Мандельштам ощущал более серьезной, нежели измену в общепринятом смысле слова: «Мучался он стихами к Наташе Штемпель и умолял меня не рвать с нею, а я никак не видела в этих стихах основания для разрыва с настоящим другом. Второе стихотворение „К пустой земле невольно припадая…“ он вообще скрыл от меня и, если бы была возможность напечатать его, наверное бы отказался. Он об этом говорил: „изменнические стихи при моей жизни не будут напечатаны“ и „мы не трубадуры“…» Последнее свидетельство особенно интересно, ибо стихи, обращенные к Н. Е. Штемпель, лишены какой бы то ни было эротической окраски. «К пустой земле невольно припадая…» относится к области высокой метафизики, оно обращено к женщине-другу, которой доведется встретить поэта после смерти:
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье…
Того же плана – вне чувственности – и стихи Цветаевой к Волконскому и Стаховичу, с которыми в ее поэзию вошла тема «отцов», людей «минувших дней».
Мы не знаем, что думала Цветаева по поводу своих «изменнических» стихов – во всяком случае, она их публиковала. Вот ее диалог с восьмилетней Алей, поставленный эпиграфом в письме к Евгению Ланну:
«– Марина! Чего Вы бы больше хотели: письма от Ланна – или самого Ланна?
– Конечно, письма!
– Какой странный ответ! – Ну, а теперь: письмо от папы – или самого папы?
– О! – Папы!
– Я так и знала!
– Оттого, что это – Любовь, а то – Романтизм!»
В этой мимоходом сказанной фразе определены отношения Цветаевой к мужу и всем остальным. Не только стихи, но и чувства, их вызвавшие, не касались главного – ее отношений с Сергеем Яковлевичем. Он был единственным; все другое было Романтизмом, все остальные – в разной степени – были «каждыми». В декабре 1920 года Цветаева признавалась сестре: «Я очень одинока, хотя вся Москва – знакомые… – Все эти годы – кто-то рядом, но так безлюдно!» Возможно, это было несправедливо к тем, кто «был рядом», но таково внутреннее ощущение Цветаевой. Она и Сережа – отдельный мир, со своими клятвами и обязательствами. Кажется, Цветаева таилась в этом главном своем чувстве, хотя в годы революции страх, боль, тоска по мужу были ее постоянными спутниками. Она жила в этих чувствах, ими мерила жизнь и скрывала их от посторонних глаз, несмотря на то, что по мере того как неизвестность становилась глубже и нестерпимее, страх и тоска ощущались острее. Когда же по окончании Гражданской войны Цветаева не получила никаких известий о муже, она была на грани отчаянья. В письмах из Крыма ей сообщили, что он был жив еще осенью двадцатого года – на этом сведения обрывались. Цветаева запрещала себе думать о его возможной гибели. Нужно было ждать и искать. Она просила Эренбурга, уезжавшего в Европу весной 1921 года, навести справки об Эфроне. Вдогонку Эренбургу она написала стихи, полные надежды, заклинающие судьбу и «вестника» – вернуть ей «единственного одного». Стихотворение звучало как продолжение заклинаний Ярославны и кончалось словами: «Ты сердце Матери везешь…»
В Крыму нашлись живыми сестра Ася с Андрюшей, Волошины, Герцыки, Парнок. Они пережили все ужасы Гражданской войны: власти, сменявшие одна другую с непредугадываемой быстротой, убийства, расстрелы, голод, болезни… Ася с Андрюшей – смерть Андрюшиного отца. В Крыму было голодно и небезопасно, победившая власть была подозрительна и скора на расправу. Цветаева ринулась помогать крымчанам. Неумелая и «недобытчик» для себя, она была на многое способна для друзей: создает общественное мнение, ходит по учреждениям, помогает «выбивать» пайки и «охранные грамоты» на дома. В письмах она уговаривала Асю перебраться в Москву; они тоскуют друг без друга, Марина уверена, что их близость еще окрепла за годы разлуки: «Думаю о нем (муже. – В. Ш.) день и ночь, люблю только тебя и его». Ей кажется, что в любом случае жить вместе будет им обеим гораздо легче, чем врозь. Она не просто зовет, а находит сестре работу в Москве и с Борисом Бессарабовым посылает на дорогу муку, деньги и «вызов» – без официального вызова проехать в Москву невозможно. Душевный и действенный отклик Цветаевой на чужую беду и нужду мгновенен и щедр. В самые трудные времена она делилась куском хлеба, папиросой, теплом своей «буржуйки», стирала рубашки поселившемуся у нее на время молодому поэту Э. Миндлину («Зачем вы стираете его рубашки? Ведь он дрянной поэт!» – уговаривала ее подруга), переписывала рукописи князю С. М. Волконскому…
Она познакомилась с ним у Веры Звягинцевой и с первой встречи потянулась к нему. Вера Клавдиевна рассказывала мне, как, увлекшись Волконским, Цветаева, ночуя у Звягинцевой, будила ее среди ночи: «Верочка, проснитесь, я хочу говорить о Волконском». Ее привлекали его происхождение – княжеское и декабристское, «порода», его театральное прошлое, образ мыслей, то, что он писал. Этот человек был интересен Цветаевой, как мало кто другой. Его дружбы стоило добиваться. Беседовать с ним, даже переписывать для него было радостью. Пожалуй, он был первым из поколения «отцов», с кем она сошлась так коротко: мальчиком в гостиной своей матери С.М.. Волконский видел и слышал самого Тютчева!
С Волконским к ней вернулись стихи – во всяком случае, она так считала. Нельзя сказать, что она не писала в последнее время, хотя ей казалось, что ее молчание длилось долго: с лета двадцатого года не было стихотворной лавины, как бывало прежде; приходили лишь отдельные стихи. Это тяготило Цветаеву. С Волконского стихи опять захлестнули ее и уже не отпускали до самого отъезда из России. Снова, как во времена «Юношеских стихов» или первых «Верст», стихи стали лирическим дневником и естественно выстраивались в книгу, которую она, издавая, назвала – «Ремесло». Она вступила в период поэтической зрелости.
О этот час, когда как спелый колос
Мы клонимся от тяжести своей…
Волконский предстал ей Учителем, обращенный к нему цикл озаглавлен «Ученик». Им открывается «Ремесло». «Школой» Волконского Цветаева завершила период своего ученичества. Потребность в Учителе ощущалась ею с отрочества. В ранней юности их с сестрой бросило к Эллису: он был уже «настоящим» поэтом, он ввел их в литературный круг. На деле он оказался лишь Чародеем – обращенная к нему поэма звучала иронически. Возможно, именно потребность в Учителе на мгновение обратила Цветаеву и к Валерию Брюсову. Об их разминовении мы знаем из «Героя труда». Брюсов не мог стать ей Учителем – их миропонимание, устремления в поэзии и темпераменты были слишком различны. За год до встречи с Волконским Цветаевой показалось, что, может быть, Учитель – Вячеслав Иванов. Весной двадцатого года она посвятила ему цикл стихов, где называет его Равви. Так ученики обращались к Христу – Учитель. Но и у него Цветаевой нечему было учиться; как и Брюсов, Вячеслав Иванов был «другой породы». Об этом сказано в стихах к нему:
Ты пишешь перстом на песке.
А я подошла и читаю…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О Равви, о Равви, боюсь —
Читаю не то, что ты пишешь!..
Это свидетельствует о жажде ученичества, а не о том, что она нашла Учителя.
В цикле «Ученик» намеренно не упомянуто слово «Учитель», оно звучит в подтексте. Если персонифицировать героев цикла, то Ученик – Цветаева, Учитель – Волконский. Но стихи не допускают буквального толкования. Учитель – не лично Сергей Михайлович Волконский: потомок декабриста, князь, писатель, философ, – а личность, явление, вобравшее в себя черты того поколения, которое с годами Цветаева все больше чувствовала не только «отцами», но и «своими». Если в стихах Вяч. Иванову она видит себя «у подножья» (кстати, уже здесь появляются у героини черты «ученика», мальчика: «грудь мальчишечья моя»), то в «Ученике» Учитель и Ученик вместе, рядом:
Тихо взошли на холм
Вечные – двое.
Тесно – плечо с плечом —
Встали в молчанье.
Два – под одним плащом —
Ходят дыханья…
Ученичество воспринимается Цветаевой и как служение-послушничество. Ученик жаждет разделить с Учителем его прошлое:
– Отче, возьми в назад,
В жизнь свою, отче!
И будущее:
– Отче, возьми в закат.
В ночь свою, отче!
В настоящем они рядом – Закат и Восход – и Ученик готов служить Учителю всем: плащом, защищающим от дождя и ветра, щитом, обороняющим в битве, первой жертвой на костре, где будут сжигать Учителя. «Ученик – отдача без сдачи, т. е. полнота отдачи», – поясняла Цветаева Юрию Иваску смысл цикла. И Учитель признает Ученика, обращается к нему «Сыне!». Ученик следует за Учителем – нет, не за Учителем, за его плащом – по холмам, по пескам, по волнам… И вдруг – последняя строка:
За плащом – лгущим и лгущим…
Что это значит? Лжет ли Учитель, принимая – незаслуженно? – служение Ученика? Или Ученик усомнился в истине, которой хотел служить? Или это ветер, играя плащом, наводит на мысль о лживости всего? Или настал тот благословенный «одиночества верховный час», который предсказан во втором стихотворении цикла? Ибо «час ученичества» не может продолжаться вечно…
Стойкие души, стойкие ребра, —
Где вы, о люди минувших дней?!
К ним Цветаева относила тех, кто всегда остается самим собой, идет «своими путями». Эта тема, начавшись в «Юношеских стихах», прошла сквозь «Лебединый Стан», «Ремесло» вплоть до поздних стихов «Отцам» и прозы. Стихи к А. А. Стаховичу, «Ученик» и следующее за ним «Кн. С. М. Волконскому» – из этого ряда. Сюда же я отношу и «Возвращение Вождя», написанное после известия, что Эфрон – жив. Оно завершает важнейшие темы: поражение Белого движения и спасение тех, кто спасся. В первой публикации названия не было, озаглавив, Цветаева подчеркнула идею: вождь спасся, он разбит, но не побежден. Потому что, несмотря на то, что он потерял все: армия разбита, меч заржавел, конь хромает и плащ разорван, – его «стан – прям». Для Цветаевой это признак душевной несгибаемости – стать, «стальная выправка хребта», как сказано в стихах «Кн. С. М. Волконскому».
Странным образом «Ученик» продолжен циклом «Марина», обращенным к памяти польской красавицы Марины Мнишек, в начале XVII века коронованной на русский престол вместе с мужем – Лжедимитрием I. Цветаева чувствовала себя мистически связанной с Мариной Мнишек не только своим дворянским польским происхождением, но и именем:
Во славу твою грешу
Царским грехом гордыни.
Славное твое имя —
Славно ношу… —
писала она в шестнадцатом году. Теперь ее отношение к тезке не так однозначно. Четыре стихотворения цикла «Марина» написаны на два голоса: в первом и третьем Цветаева – лирическая героиня – перевоплощается в Мнишек, во втором и четвертом видит и судит ее из своего времени и своим судом. Первый голос подобен голосу Ученика – побратима – женщины – любящей, но он ведет свою тему как бы вне пола, ради любви от своего женского естества отстраняясь:
Не подругою быть – сподручным!
Не единою быть – вторым!
Только две первые и три последние строки в первом стихотворении цикла «Марина» написаны в женском роде, все остальное – в мужском. Третье сделано так, что род и пол в нем отсутствуют:
– Сердце, измена!
– Но не разлука!
И воровскую смуглую руку
К белым губам.
Это направляет мысль читателя к общечеловеческому, не сексуальному понятию верности, преданности. «Ученик» и «Марина» начинаются одинаково:
Быть мальчиком твоим светлоголовым… – «Ученик»
Быть голубкой его орлиной!.. – «Марина»
Быть – принадлежать – служить кому-то, кому ты необходим – вечная тема Цветаевой: «по людям маюсь…» В обоих циклах нагнетается определение того, что она, Цветаева, понимает под «служением»:
От всех обид, от всей земной обиды
Служить тебе плащом… – «Ученик»
Серафимом и псом дозорным
Охранять непокойный сон… – «Марина»
При первом чернью занесенном камне
Уже не плащ – а щит! – «Ученик»
Распахнула платок нагрудный.
– Руки настежь! – Чтоб в день свой судный
Не в басмановской встал крови… – «Марина»
Охранять, защищать, всюду следовать за Ним – призвание Ученика и Любящей. По холмам, по пескам, по волнам – Ученик за Учителем…
Где верхом – где ползком – где вплавь!
Тростником – ивняком – болотом,
А где конь не берет, – там лётом… —
Марина Мнишек за Возлюбленным… Даже смерть вместе с Ним – благо, лучший из возможных исходов.
И – вдохновенно улыбнувшись – первым
Взойти на твой костер. – «Ученик»
И – повторенным прыжком —
На копья! – «Марина»
Это – идеальное, романтическое воплощение. Можно сказать, что не Цветаева перевоплотилась в Марину Мнишек, а наоборот – она перевоплотила реальное историческое лицо в себя – поэта. Об этом есть гораздо более поздняя запись в ее тетради: «…если бы я писала… – то написала бы себя, т. е. не авантюристку, не честолюбицу и не любовницу: себя – любящую и себя – мать. А скорее всего: себя – поэта». Именно это она и сделала в первом и третьем стихотворениях «Марины», поставив на место Мнишек себя – поэта, себя – любящую, себя – «больше матери». С этой высоты второй голос в цикле оценивает историческую, жившую на земле Марину Мнишек. Это голос Марины Цветаевой, отстранившейся от Марины Мнишек, голос поэта-женщины, умудренной опытом революции, разлук и смертей. Автора и героиню сближает историческое сходство эпох: годы Гражданской войны ассоциировались со Смутным временем. Второй голос создает образ честолюбицы, авантюристки, предательницы – даже не любовницы, ибо это в глазах Цветаевой было бы хоть некоторым оправданием Мнишек. Второе стихотворение цикла открыто противопоставлено первому: если в первом провозглашено, кем она – Марина Мнишек– должна и могла быть возлюбленному, то во втором перечислено, кем она для него не стала, чего не сделала. Все его строфы, кроме последней, кончаются отрицанием: ты – «не родившая сына», «не махнувшая следом», «не покрывшая телом», «не отершая пота», последняя беспощадно Марину Мнишек карает:
– Своекорыстная кровь! —
Проклята, проклята будь
Ты – Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной!
«Ученик» и «Марина» внутренне связаны мыслями о муже, о необходимости быть рядом с ним. В «Ученике» это более эпически-отрешенно, в «Марине» – драматически-страстно. «Больше матери быть, – Мариной!» – именно то, чем Цветаева была Сергею Эфрону, чем не стала Марина Мнишек Лжедимитрию. В подтексте слышится: если бы я была на месте Мнишек… Если бы мне, как ей, довелось делить судьбу возлюбленного… Если бы я была рядом, я не дала бы ему умереть или погибла вместе с ним… Но, может быть, где-то в еще более глубоком подсознании жило и самоосуждение: но ведь меня не было рядом… Не потому ли в первом стихотворении цикла «Разлука» слышен отзвук воспоминания о Мнишек и Лжедимитрии? Та же кремлевская площадь, «гул» – «башенный бой» (колоколов), выброшенное на площадь тело Лжедимитрия —
Точно рукой
Сброшенный в ночь —
Бой…
Их ситуацию Цветаева проецирует на свою, приравнивая к предательству Мнишек свою разлуку с мужем, обращаясь к Сереже – ему посвящен цикл: «брошенный мой». Стихами Цветаева пытается избыть тоску неизвестности. «Разлука» – трагический цикл, где тема разлуки – может быть, вечной – с любимым сплетается с темой разлуки с ребенком – воспоминание о смерти Ирины – и с мыслями о собственной смерти-самоубийстве. Это не поэтическая вольность, она на самом деле видела в этом последний исход и писала о нем Звягинцевой: «Милая Вера, у меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне – кажется – лучше умереть. – Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить. Подумайте – такая длинная жизнь – огромная – все чужое – чужие города, чужие люди – и мы с Алей – такие брошенные – она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться?» Изжить боль стихами оказывалось непросто. Заканчивая работу над «Разлукой», Цветаева писала Ланну, что эти стихи «… трудно писать и немыслимо читать. (Мне – другим). – Пишу их, потому что, ревнивая к своей боли, никому не говорю про С<ережу>, – да не?кому. У Аси достаточно своего, и у нее не было С<ережи>.
Эти стихи – попытка проработаться на поверхность, удается на полчаса». Вопреки последнему утверждению тема преодоления земного страдания в поэзии впервые возникла в «Разлуке», с которой начался новый этап поэтики Цветаевой: ее душевное смятение больше не находило выражения в строгой классической форме, каким был, например, «Ученик». Усложняются ассоциативные ходы, мысли не договариваются, фразы строятся без какого-нибудь из главных членов. Так «Возвращение Вождя» написано без единого глагола. Читатель приобщается к самому процессу возникновения стиха, от него требуется непосредственное сопереживание. Если в «Разлуке» новое еще соседствует с прежней открытой Цветаевой, то постепенно ее стих становится более сложным и герметичным и к концу «Ремесла» как бы погружает читателя в хаос.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
«Психея (стихи моей дочери)» Марина Цветаева
1
Корни сплелись.
Ветви сплелись. —
Лес Любви.
2
Вы стоите как статуя старая
Оперевшись на саблю.
И я, листик с кленового дерева,
Облетел к суровым ногам.
3
Спите, Марина,
Спите, Морская Богиня.
Ваше лицо будет скрыто в небесных морях.
Юноши будут давать Вам обеты в церквах.
Звери со всех сторон мира
Будут реветь под цыганской звездою любви.
4
Не в гробе, а в гроте
Уснете, Морская Богиня.
Море глубоко пророет чертоги для Вас.
Море тихонько ласкает свободные руки,
Море наводит улыбку на спящие губы,
Море поет вам сквозь сон про набеги морские
Как синеоких любимцев своих побеждало,
Как похищало персийских красавиц у них,
Как воровало кораллы из черных кудрей.
Только одну — любоваться — оставило море, —
Всех — покровительницу.
5
Стало царствовать лишь солнце и невинное дитя.
Желтокудрою овцою бродит нежная любовь.
Кто желал себе кладбища, тот нашел себе шалаш.
Кто-то скинет платье утомленья
И наденет ожерелье янтаря.
6
ВАША КОМНАТА
Пахнет Родиной и Розой,
Вечным дымом и стихами.
Из тумана сероглазый гений*
Грустно в комнату глядит.
Тонкий перст его опущен
На старинный переплет.
А над изголовьем — грозным
Серебром сверкая — Ястреб, Царь ночей.
__________
*Портрет отца.
7
Рокот ночного пера.
Колотушка темного сторожа.
Сон на коне въехал.
— «Здесь не спят!»
8
В ночи не слепнет сова,
Во дне не слепнет ворон.
Отовсюду идет беда.
Тот уносит младое дитя,
Тот несется с посланием черным.
Злополучная птица гнездится
Во Христосовом доме.
Злой пожар без огня победил.
9
Не молоток дверной, а сердце
Молотит в грудь.
Не топот конский — сердце
Ваше стучит в ночи.
Не барабанный бой победы,
А сердца гром.
Не медная волна набата,
А сердце — вон.
10
Где-то играет старинный марш,
Кто-то летит на гибель.
Где-то вздымается гулкий крик:
— Родина не погибла!
11
СЕРЕЖЕ
Это сердце скрывает всю грусть.
Трехугольные брови тоскливы.
Тонкий палец прижатый к губам
Сторожит, — не придет ли она
С героической розой в губах.
Эта роза растет в страсти моря,
Глубина этой розы любовь.
12
Ты уходишь день,
Не открыв Кремля,
Ты плывешь в колокольном звоне.
Из Двадцатого Года уходишь ты,
Вербное Воскресение.
Благовещенье — внук твой — откроет реку.
Из Двадцатого Года, из Двадцатого Века…
13
Молодая Царь-Девица
Привлекла весну,
Принесла с собою нежность
И тоску.
Полюбила, не забыла,
Прорвалась, принеслась,
Подарила свои крылья
В сотый раз.
14
УНЫНИЮ
Зачем такой сумрачный день,
Зачем паровозы с вокзала
Привозят неверье и грусть.
Зачем больше нету свободы,
Зачем все ушло так далёко,
Зачем больше нет ничего.
15
МНЕ
Я устала быть госпожой.
Мне приятнее быть рабой.
Чтобы руки владели косой,
А глазища — слезой.
Я устала быть госпожой,
Мне приятнее быть рабой,
Чтоб привычной рукою прясть
Перед смертию лен.
16
Роза ушла со стены
Чтобы жить.
Сердце ушло из груди
Умереть.
17
Опустилась занавеска,
Как темно!
Дышишь, дышишь, дышишь, дышишь.
Не унять.
Папироса бродит тут и там и здесь.
Люди спят,
А мне вот не уснуть никак.
18
Чей конь далеко ржет?
Войны.
Чей голос жалобный вдали?
То голос матери, вдовы, —
Невесты, дочки, мы.
19
МАРИНЕ
Я качаю твою люльку
Пред огнем.
Опрокидываю жизнь твою
Вверх дном.
20
Волны спят и несутся далече,
А цыгане поют и крадут.
В их телегах походных заря:
Мариулы, Марины.
Москва, Весна 1920 г., 7 лет.
Все стихи (содержание по алфавиту)
Возле маминого сундука. Переписка дочери Марины Цветаевой
Ариадна Эфрон. Нелитературная дружба: Письма к Лидии Бать / пред. Р. С. Войтеховича, прим. И. Г. Башкировой. – М.: Собрание; Дом-музей Марины Цветаевой, 2018.
Жила-была на свете девочка, мама ее писала стихи, отец до поры сражался с красными. В голодной Москве девочка носила богоподобной матери пшено в ладони из детского сада. В Чехословакии зеленоглазая, странная и дерзкая девочка жила в 10-м бараке русской гимназии в Моравской-Тршебове. О десятилетнем ребенке уже были написаны статьи Бальмонта и Волконского, а ее соученица Алла Головина позже вспоминала: «Она просто сознавалась стихами в ощущениях детского чуда:
Милая рождественская Дама,
Уведи меня с собою в облака.
Белый ослик выступает прямо,
Ты легка, и я уже легка.
Я игрушек не возьму на небо…
Ослик твой не хочет молока.
Да и я уже сыта без хлеба…
Ты – легка, как я теперь – легка».
Счастлива я была – за всю свою жизнь – только в тот период, с 37 по 39 год в Москве
В Париже девочка любовалась игрушками в Bon Marche и собирала рождественские подарки: «Маме – рубашка, которую сама сшила, с мережкой и вышивкой, папе – полдюжины платков (сама метила) и Мурру – очень миленького игрушечного баранчика, беленького, с голубенькой ленточкой» (А. Эфрон – Анне Тесковой, 19 декабря 1925). Она посещала Училища прикладного искусства и изящных искусств (при Лувре), рисовать ее учили, в частности, Н. Гончарова и В. Шухаев.
Потом девочка выросла, увлеклась идеей «возвращенчества» в СССР, кламарское бедное жилище стало ее тяготить, а еще более того – материнская вездесущая опека. Как снежный ком увеличивалось и недовольство Марины Ариадной: «Шесть лет школы пока что зря, ибо зарабатывает не рисованием, а случайностями, вроде набивки игрушечных зверей, или теперь, м.б. поступит помощницей помощника зубного врача – ибо жить нечем. Очень изменилась и внутренно… Вечное желание «компании» – какой бы ни было, т. е. просто хохотать вместе. Вечное и бессмысленное чтение газет – лишь бы «новости». Мне с ней скучно. И ей – со мной. На меня она совершенно непохожа: я никогда не была ни бессмысленной, ни безмысленной, всегда страдала от «компании», вообще всегда была – собой <…> Мне чужда ее природа: поверхностная, применяющаяся, без сильных чувств, без единого угла. Это не возраст, это – суть, вскрывшаяся с той минуты, когда она вышла из-под моего давления, стала – собой», – писала Марина Цветаева Анне Тесковой.
Я работаю буквально не вставая с места, с усидчивостью монумента Островскому у Малого театра
Ариадна первой из необыкновенного семейства вернулась в Советский Союз – в марте 1937 года, работала в Журнально-газетном объединении (ЖУРГАЗ) – в штате ежемесячного издания Revue de Moscou. Алис Феррон (псевдоним Ариадны) писала очерки «День отдыха в Москве», «День в магазинах», «День в лагере» (не пугайтесь, он был для «Красноармейского номера»), к делу этому относилась здраво: «Получилось, правда, г… – но ведь Красная армия вовсе не моя стихия!» 27 августа 1939 г. Эфрон арестовали, под пытками она дала признательные показания и была осуждена за «шпионаж» на 8 лет лагерей. Срок отбывала в Коми и Мордовии, работала на лесоповале, в швейном, химическом, деревообрабатывающем цехах. После освобождения в 1947–1949 годах жила в Рязани, преподавала в тамошнем художественном училище. В 1949 г. арестована повторно и отправлена в пожизненную ссылку в Туруханск (Красноярский край), где работала художником-оформителем районного Дома культуры: «Пишу лозунги, которые перестирываются, рекламы, которые вновь и вновь забеливаются, декорации, которые перекрашиваются и перестраиваются, и т. д.» 31 августа 1954 г. Ариадна получила паспорт с ограничением мест проживания, в Москву ей удалось вернуться год спустя – в июне 1955 г., вместе с подругой на всю оставшуюся жизнь – Адой Шкодиной-Федерольф (1901–1996, познакомились в рязанской тюрьме в 1949-м). Последние двадцать лет жизни Ариадна занималась подготовкой и публикацией наследия матери в СССР, жила многочисленными переводами – из Лопе де Веги, Арагона, Элюара, Верлена, Бодлера, Тирсо де Молины, Скаррона и др.: «Я работаю буквально не вставая с места, с усидчивостью монумента Островскому у Малого театра; только что голуби de la paix не какают на голову, а так – сходство полное». Сборники Марины Цветаевой с трудом одолевали рогатки советской цензуры, а труды переводческие были нерадостными: «Жалею ужасно, что связалась с Петраркой, – я способна переводить его лишь на мыло, а он по-прежнему верен лишь Лауре и не желает и взгляда бросить в мою сторону».
Дом-музей Марины Цветаевой выпустил книгу писем Ариадны Эфрон – Лидии Бать (1897–1980), сначала коллеге, а потом подруге и соседке. Если биография Ариадны Эфрон носила катастрофический характер, то жизнь Лидии Бать – пример образцовой судьбы второстепенного советского литератора. Она родилась и выросла в Одессе, в интеллигентной и преуспевающей семье (отец – кандидат права, мама – зубной врач). После революции и Гражданской войны Лидия стала служить в Одессе в системе просвещения (библиотеки, литературные секции, клубы), самой известной ее ученицей оказалась Маргарита Алигер. После мутной романтической истории – первый муж Бать как будто застрелился от ревности на пороге ее спальни – Лидия в 1923 г. вышла замуж за Самуила Мотолянского (1896–1970), юриста, статистика и проектировщика «городов-садов» (с 1933 г.). В 1932 г. Бать переезжает в Москву и начинает журналистскую работу. Решающим стало ее знакомство с «маленькой ходячей энциклопедией в больших очках» – Александром Дейчем (1893–1972), литератором из Киева, товарищем и коллегой Луначарского, Кольцова, Рыльского. Дейч устроил Лидию в систему ЖУРГАЗа: ее хороший французский язык пригодился на посту ответственного секретаря Revue de Moscou, работала она и в других редакциях «Интернациональной литературы». А. Дейч принимал деятельное участие в издании серии «Жизнь замечательных людей» и как редактор, и как автор. Он пригласил Лидию Бать в помощницы, вместе они написали биографии Нансена, Амундсена, Шевченко. Со временем она самостоятельно опубликовала беллетризованные жизнеописания Алишера Навои и А. С. Новикова-Прибоя, сборники очерков и воспоминаний. Помимо Дейча, покровительствовала Лидии Бать знаменитая коммунистка Елена Стасова, бывшая главным редактором «Интернациональной литературы» в 1938–1943 гг.
Л. Бать и С. Мотолянский благополучно пережили Большой террор и Отечественную войну, но вот брата Лидии – Александра расстреляли в декабре 1937 г. Когда возникла опасность падения столицы, Мотолянского оставили работать в Москве, а Бать с Дейчем эвакуировались в Ташкент. Там Лидия и заинтересовалась литературой Средней Азии, там была принята в Союз писателей, там общалась с Георгием Эфроном и немного помогала строптивому сироте.
Познакомились корреспондентки, как нетрудно догадаться, в коридорах редакций ЖУРГАЗа. Женщины подружились, и Лидия стала, кажется, единственной знакомой Ариадны, которую она познакомила со своими родителями. Дружеские отношения, несмотря на различие судеб, продолжались до самой смерти Эфрон в 1975 г.
Комната Эфрон и Шкодиной в Туруханске
Переписка началась вскоре после знакомства – в 1939 г., но надолго прерывалась по очевидным причинам, когда Эфрон находилась в заключении или на поселении. Регулярный характер она приобрела с конца 1954 г., сначала Ариадна писала из Туруханска, позже – из Тарусы, где поселилась вместе с А. Шкодиной. В 1962 г. Эфрон и Бать стали соседками: Ариадна получила кооперативную квартиру в одном из «писательских» домов у станции метро «Аэропорт».
Трудно ожидать сенсационных откровений от писем почти загубленного советским режимом человека, да и Лидия Бать не относилась к конфиденткам Эфрон. Тем не менее внимательный читатель немало узнает о времени и жизни Ариадны.
Выйдя из сундука, мамина жизнь туда не возвращается больше, над этим не закроешь крышку
Семья Эфронов была уничтожена в годы войн и репрессий, а после лагерей и ссылок Ариадна уже не пыталась обзавестись новой, довольствуясь испытанной компаньонкой Адой. С тетушками Ариадна соблюдала дистанцию: Валерия Цветаева была, скорее, соседкой; Елизавета Эфрон – болезненной старушкой; Анастасия Цветаева шутливо прозывалась Савонаролой-Аттилой. Ближайшими существами были зверушки: в детстве Ариадна обожала игрушечных, в зрелости – живых – бесчисленных и прехорошеньких Мурзиков и Шушек. Покидая ссыльный Туруханск, Ариадна огорчалась одним обстоятельством: «А собаку-то, собаку-то бросить! Такую милую, верную, красивую и умную собаку, которая решительно все понимает, настолько, что иногда приходится говорить по-французски! И никто ее брать не хочет, т. к. здесь все собаки – рабочие, воду возят и дрова, а моя только умеет ходить на задних лапах и кусать милиционеров».
Семьи не было, но оставалось трагическое семейное наследие: «Пока нашла 64 тетради. Из этого сундука, окованного железом, как из ящика Пандоры, встает вся та жизнь, которую я в себе держала, тоже, как в ящике, и не давала ей ходу. Выйдя из сундука, мамина жизнь туда не возвращается больше, над этим не закроешь крышку. Все это сильнее меня – и живее меня, живущей». Исправить это прошлое не могли никакие реабилитации, полученные в коридорах, пахнущих табачным дымом и уборными, или «компенсации» в виде позабытых в багаже Ариадны ботинок попутчика-следователя.
Ариадна Эфрон
Вернувшись из Франции, Ариадна Эфрон навсегда угодила в зловещий советский бермудский треугольник. С одной стороны, была провинция – необъяснимая, где зампредседателя колхоза оборачивался практикующим шаманом; агрессивная, с опасным татаро-монгольским огоньком в глазах, и неизменно бедная: «В магазинах – унылые ситцы и культтовары каменного века, в продуктовых – хлеб, конфеты «Весна» и рыбные консервы «Ряпушка». Другой стороной была Москва, с бытом литературной поденщицы: квартира с обстановкой – «мокрое пятно в углу и сухие пятна на обоях: все же не совсем пусто!» Свои интеллигентские будни Ариадна описывала с нескрываемой иронией: «На днях был у меня Орлов; говорили за литературу и пили чай из синего Веджвуда; к чаю была одна ложка серебряная и одна алюминиевая и еще немного варенья». Но Москва оказывалась источником помощи, в которой Ариадна постоянно нуждалась. Умирающий от рака Казакевич и одесская ученица Лидии Бать – Алигер организовали получение ссуды для кооперативной квартиры. Эренбург «подарил «Оттепель», семена голубого эвкалипта и еще какие-то пилюли от тошноты на самолете» (встреча состоялась в ноябре 1954 г. в Москве, куда Эфрон ненадолго приехала по делам реабилитации).
Все понятнее и ближе становятся здесь истоки маминого творчества – вскормившая и убившая ее Россия
Третьей и самой приятной стороной «социалистических Бермуд» была Таруса – «филиал Переделкина и Барбизона; пляж умощен телами окололитераторов и околохудожников; в воздухе висели исключительно интеллектуальные разговоры и философские термины». Проживавшая там единокровная сестра Марины Цветаевой – Валерия подарила Ариадне часть участка, где Эфрон и Шкодина построили скромный домик: «Мороз стучал кулаком в бревна домика; именно такое впечатление – вдруг раздается глухой удар в стену: от холода бревно дает трещину». Но была зато чудесная старинная идиллия: «Немного распущенный, но уютный, со всякими закоулочками, домик над Окой, изумительный сад с кустами сирени, жасмина, жимолости, бузины. Много деревьев, много малины и смородины. Есть бодучая коза с кошачьими глазами, и с такими же глазами очень милая кошка, и совсем маленький котенок, который прелестно шипит на меня. Есть и собачонка на коротких лапах, с которой мы уже никуда друг без друга. А главное – все вокруг почти такое же, как в мамином детстве… Все понятнее и ближе становятся здесь истоки маминого творчества – вскормившая и убившая ее Россия».
В Тарусе и Болшеве Ариадна с облегчением расставалась с сартровской тошнотой советской повседневности и переживала прустианское чувство обретенного времени. А Лидия Бать стала для Ариадны, пожалуй, своеобразной Тарусой, только среди людей: «Ты – кусок моей молодости и счастья, потому что счастлива я была – за всю свою жизнь – только в тот период, с 37 по 39 год в Москве, именно и только в Москве. До этого счастья я не знала, после этого узнала несчастье, и поэтому этот островок моей жизни так мне дорог и так дороги мне мои тогдашние спутники».
Письмо дочери Марины Цветаевой… — Киноклуб-музей «Эльдар»
В рубрике #Я_вам_пишу письмо дочери Марины Цветаевой Ариадны Эфрон — Анне Ахматовой.
Москва, 17 русского марта 1921 г.
Дорогая Анна Андреевна! Читаю Ваши стихи «Четки» и «Белую Стаю». Моя любимая вещь, тот длинный стих о царевиче (1). Это так же прекрасно, как Андерсеновская русалочка, так же запоминается и ранит — навек. И этот крик: Белая птица — больно! Помните, как маленькая русалочка танцевала на ножах? (2) Есть что-то, хотя и другое.
Эта белая птица — во всех Ваших стихах, над всеми Вашими стихами. И я знаю, какие у нее глаза. Ваши стихи такие короткие, а из каждого могла бы выйти целая огромная книга. Ваши книги — сверху — совсем черные, у нас всю зиму копоть и дым. Над моей кроватью большой белый купол: Марина вытирала стену, пока руки хватило, и нечаянно получился купол. В куполе два календаря и четыре иконы. На одном календаре — Старый и Новый год встретились на секунду, уже разлучаются. У Старого тощее и багородное тело, на котором жалобно болтается такой же тощий и благородный халат. Новый — невинен и глуп, воюет с нянькой, сам в маске. За окном новогоднее мракобесие. На календаре — все православные и царские праздники. Одна иконочка у меня старинная, глаза у Богородицы похожи на Ваши.
Мы с Мариной живем в трущобе. Потолочное окно, камин, над которым висит ободранная лиса, и по всем углам трубы (куски). — Все, кто приходит, ужасаются, а нам весело. Принц не может прийти в хорошую квартиру в новом доме, а в трущобу — может.
Но Ваши книги черные только сверху, когда-нибудь переплетем. И никогда не расстанемся. «Белую Стаю» Марина в одном доме украла и целые три дня ходила счастливая. Марина все время пишет, я тоже пишу, но меньше. Пишу дневник и стихи. К нам почти-то никто не приходит.
Из Марининых стихов к Вам (3) знаю, что у Вас есть сын Лев. Люблю это имя за доброту и торжественность. Я знаю, что он рыжий. Сколько ему лет? Мне теперь восемь. Я нигде не учусь, потому что везде без ъ и чесотка.
Вознесение
И встал и вознесся,
И ангелы пели,
И нищие пели.
А голуби вслед за тобою летели.
А старая матерь,
Раскрывши ладони:
— Давно ли свой первый
Шажочек ступнул!
Это один из моих последних стихов. Пришлите нам письмо, лицо и стихи. Кланяюсь Вам и Льву.
Ваша Аля.
Деревянная иконка от меня, а маленькая, веселая — от Марины.
[Приписка М. И. Цветаевой]
Аля каждый вечер молится: — «Пошли, Господи, царствия небесного Андерсену и Пушкину, — и царствия земного — Анне Ахматовой».
Примечания
А. С. Эфрон имеет в виду поэму Анны Ахматовой «У самого моря», напечатанную в книге Ахматовой «Белая стая» (Петроград, 1917. С. 123). вверх
2. В сказе Андерсена «Русалочка» русалка влюбилась в принца и попросила колдунью превратить ее хвост в ноги, та согласилась, но с условием, что ходить на ногах будет больно, как на ножах. вверх
3. «Стихи к Ахматовой», стихотв. 4.
Имя ребенка — Лев,
Матери — Анна.
. . . . . . . . . . .
Волосом он рыж…
#КультураРФ #Письма #Ахматова #Цветаева
Рецензии на книги Ариадны Сергеевны Эфрон
И неподъемной ношей
невыплаканный груз на сердце, и одиночество навечно, и выжженный огнем в памяти
образ той, кто для нее больше, чем поэт.
Я выпила залпом сразу несколько книг – «Устные рассказы» Ариадны Эфрон, ее письма Б. Пастернаку, «Дочь» Зиновия Паперного и «Воспоминания о Марине Цветаевой». И кажется горы, кажется целое море, бескрайняя высь – образов, голосов, фраз, стихов окружили меня. И Она. Марина. Вокруг которой, весь этот водоворот слов. И первое – устные рассказы Ариадны, ее письма – как раздробленные фрагменты калейдоскопа, которые – вроде бы чужие (Ариадны, не Марины), но, так или иначе, складываются в знакомую картину, в знакомое лицо. Знакомое, но далекое. Всегда я воспринимала Ее как далекую, недостижимую, великую. Она на моем Олимпе. Она мое число Грэма. Но здесь, у Эфрон, она была «Мариной», реже «мамой», она словно стала ближе, реальнее, стоит только протянуть руку…
Я искала тебя всю ночь,
И сегодня ищу опять,
Но опять ты уходишь прочь,
Не дозваться и не догнать.
Не остыли твои следы,
Звук шагов твоих слышу я,
Но идешь, не задев земли,
Но идешь, не смутив воды,
Ненастигнутая моя…
Ариадна Сергеевна – необыкновенная, чрезвычайно одаренная, удивительная. С первых шагов в этот мир, она смотрела на жизнь глазами Марины Цветаевой, она априори не могла быть такой как все, потому что ее воспитывали не как всех. Ребенком она была взрослой, присматривала за Мариной, была серьезной и вдумчивой, острый ум, меткий взгляд, маленький космос в небесно-голубых глазах. Она жила в бедности, даже в нищете, она мечтала найти кошелек с двумя миллионами, чтобы помочь семье и бедным студентам в Праге. Она была приучена к железной дисциплине матери, подчинена ритму ее жизни, и была той, на ком держится быт и дом, будучи еще ребенком. Безусловно талантливая, но не получившая систематического образования, она не имела возможности добиться своих, личных высот и получила от судьбы столько испытаний, сколько смогла вынести. Лагеря и ссылки, уголовники (потому что не хватало мест среди политических), лесоповал, голод, выживание, изгнание, ничтожно маленькое место в этой жизни. Сколько таких историй и судеб в нашей стране? Ведь не счесть. И где брали силы, чтобы пережить? И как можно, вообще, жить?…
Дальше…
Почему Марина Цветаева не любила детей и не носила очки
Чем примечательна жизнь этой знаменитой поэтессы? Конечно, плодотворным творчеством, но и не только. Марина Цветаева, как, наверное, практически все поэтессы, всегда была полна внутренних противоречий, смятенных чувств и ярких недостатков. Одаренная, умная, неповторимая, она не любила быт и была в обычной жизни деспотична и безжалостна.
Талантливая и жестокая
Марина Цветаева уже с детства выделялась на фоне своих сверстников незаурядными способностями. Уже с четырех лет для девочки не было ничего лучше, чем часами сидеть за книгами. Стихи она начала писать очень рано, тайком записывая их и никому не показывая, причем не только на русском, но и на иностранных языках. Впечатлительная, наделенная явным даром, казалось бы, баловница судьбы. Но, рано потеряв мать, Марина словно лишилась чего-то важного настолько, что оставило глубокий след в ее душе. Например, когда она сама стала мамой, то смогла полюбить только старшую дочь. Которая так же, как она, рано начала произносить вслух рифмованные фразы. Угадав в старшей дочери Ариадне талант, Марина любила ее куда больше младшей — Ирины. Малышка росла болезненной и требовала много внимания, а Цветаева ненавидела быт и тяготилась этим ребенком. Позже обеих девочек она отдала в приют через знакомых, чтобы они были записаны как сироты. Виной тому было сложное материальное положение, но и в приюте девочки голодали, плакали. Ариадна писала Цветаевой, что двухлетняя Ирина постоянно зовет ее и плачет. Рассерженная поэтесса огрызнулась, что при ней-то Ирина и пикнуть не смела и еще раз упомянула ее «гнусный» характер. Когда позже малышка уже болела, из приюта Цветаева забрала лишь старшую дочь, а на похороны младшей, скончавшейся вскоре, так и не увидев больше свою мать, даже не явилась.
Ариадна и Ирина Эфрон, дочери Марины Цветаевой
Верила в знаки
Как и Михаил Лермонтов, Цветаева однозначно верила в судьбу. И это точно так же сыграло с ней злую шутку, пускай и не такую драматичную, как в его случае. Объясним почему. Однажды Марина сказала, что выйдет замуж за того, кто угадает ее любимый камень. Во время ее поездки в Крым Сергей Эфрон, с которым они познакомились именно там, подарил поэтессе бусину из сердолика. И уже через год они вступили в брак. Который был, мягко говоря, не совсем счастливым.
Марина Цветаева со своим мужем Сергеем Эфроном
Своеобразно относилась к своей внешности
Будучи внешне достаточно привлекательной, поэтесса категорически не хотела носить макияж, совсем. Объясняла она этот факт достаточно оригинально. По ее словам, тогда «всякий дурак подумает, что это для него накрасилась». А вот носить очки, учитывая ее крайне плохое зрение, Цветаева тоже не стала начиная с шестнадцатилетнего возраста. Непонятно, стеснялась ли она толстых линз либо просто хотела бунта, но больше очков она не носила никогда. Поэтесса утверждала, что расплывающийся (в буквальном смысле) мир вокруг ей более интересен. Ведь так она может сама дорисовать окружающую действительность в соответствии со своим нынешним душевным запросом и фантазией.
Марина Цветаева была яркой женщиной и не стремилась пользоваться косметикой
Жизнь Марины Цветаевой оборвалась по ее собственному желанию, и это очень на нее похоже. Всегда решая сама за себя, а чаще и за своих близких, поэтесса сделала так и в этот последний, роковой раз. Можно долго осуждать и обсуждать ее, хотя стоит помнить лишь одну простую истину: если человек сам несчастлив, он не может сделать счастливыми других. И то, что происходило с ней за всю ее взрослую жизнь, хоть и было порой шокирующим, являлось поиском себя. Поиском счастья. Который так и не завершился успехом. А чего для счастья не хватает лично вам?
О неожиданных чертах характера другого знаменитого русского поэта Михаила Лермонтова мы тоже уже писали.
Марина Цветаева | Фонд Поэзии
Русская поэтесса Марина Цветаева (также Марина Цветаева и Марина Цветаева) родилась в Москве. Ее отец был профессором и основателем Музея изящных искусств, а мать, умершая от туберкулеза, когда Марине было 14 лет, была пианисткой. В 18 лет Цветаева выпустила свой первый сборник стихов «Вечерний альбом ». При жизни она писала стихи, стихотворные пьесы и прозаические произведения; она считается одним из самых известных поэтов России ХХ века.
Жизнь Цветаевой совпала с бурными годами в истории России. В 1912 году она вышла замуж за Сергея Эфрона; у них родились две дочери, а позже — сын. Ефрон присоединился к Белой армии, и Цветаева была отделена от него во время Гражданской войны. У нее был короткий роман с Осипом Мандельштамом, а более длительные — с Софией Парнок. Во время московского голода Цветаева была вынуждена отдать дочерей в государственный детский дом, где младшая Ирина умерла от голода в 1919 году. В 1922 году она эмигрировала с семьей в Берлин, затем в Прагу, а в 1925 году поселилась в Париже.В Париже семья жила бедно. Сергей Эфрон работал на советскую тайную полицию, а Цветаева избегала русских эмигрантов в Париже. В годы лишения и ссылки поэзия и общение с поэтами поддерживали Цветаеву. Она переписывалась с Райнером Марией Рильке и Борисом Пастернаком, а работу посвятила Анне Ахматовой.
В 1939 году Цветаева вернулась в Советский Союз. Эфрон была казнена, а выжившая дочь отправлена в трудовой лагерь. Когда немецкая армия вторглась в СССР, Цветаева была эвакуирована в Елабугу вместе с сыном.Она повесилась 31 августа 1941 года.
Критики и переводчики творчества Цветаевой часто отмечают страстность ее стихов, их быстрые изменения и необычный синтаксис, а также влияние народных песен. Она также известна своим изображением женских переживаний в «страшные годы» (так описал период российской истории Александр Блок).
Сборники стихов Цветаевой, переведенные на английский язык, включают Избранных стихотворений Марины Цветаевой в переводе Элейн Файнштейн (1971, 1994).О ней написано несколько биографий, а также сборник воспоминаний «Нет любви без поэзии» (2009) ее дочери Ариадны Эфрон (1912–1975).
матерей, дочерей, матерей | Литература, гуманитарные науки и мир
Через несколько недель я собираюсь в Иллинойс, чтобы впервые увидеть свою племянницу Элли. Сегодня я сижу допоздна, пытаясь представить свою младшую сестру матерью. Это не легко.Для меня она по-прежнему остается той девушкой, чьим самым большим желанием в жизни было владеть новейшей куклой Strawberry Shortcake.
В поисках инсайта я снял со своей книжной полки стихи русского модерниста Марины Цветаевой (1892-1941). В 1910-х годах она написала серию замечательных текстов о своей дочери Ариадне Эфрон (1912-1975) и для нее. Ей было за двадцать, и она была занята открытием мира и своим гением. Жизнь, литература и любовь были тесно переплетены: у нее были романы с поэтами Осипом Мандельштамом и Софьей Парнок, и она писала головокружительные стихи об обоих отношениях.Само название «Ариадна» дает представление о душевном состоянии Цветаевой в то время. Она назвала свою дочь в честь критской принцессы, которая научила Тесея выбраться из Лабиринта. Никакие препятствия, никакие лабиринты, и прежде всего никакие гендерные нормы не могли бы заточить ее или ее ребенка.
Особенно запомнилось первое стихотворение из ее цикла «Стихи о Москве » (1916). Я даже не буду пытаться воспроизвести ее звуковую игру или измеритель. Это выше меня. Быстрыми точными шагами она танцует между двумя крайностями, грубыми рифмами и вообще без рифм.Что я могу предложить в переводе, так это ее телеграфный синтаксис, ее быстрые мысли, ее игру слов и интенсивность ее страсти:
Облака — вокруг.
Куполы — вокруг.
Над всей Москвой —
Сколко хватит рука! —
Возношу тебя, самое лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!
В дивном сорт сем,
В мирном сорт сем,
Где и мертвый мне
Будет радостно, —
Царевать тебе, горевать тебя,
Принимать венец,
Мой первенец!
Ты постом — говей,
Не суръми бровей,
И все сорок — чти—
Сороковская церковь.
Исход пешком — молодым шазкком—
Все привольное
Семихолие.
Будет твой черед:
Тоже — дочери
Передаш Москву
С нежной горы.
Мне же — свободный сын, колокольный звон,
Зори ранние
На Ваганьково.
* * * * * * *
Облака — вокруг.
Купола — вокруг.
Над всей Москвой —
Сколько рук хватит!
Я поднимаю тебя, лучшая ноша,
Мой невесомый
Саженец!
В этом чудесном городе
В этом мирном городе
Где даже мертвый Я
Был бы рад —
Царю тебя, скорбеть о тебе,
Взять венок,
О мой первенец.
Пост перед причастием,
Не омрачай бровей,
И почитай все сорок
Времен сорок церквей.
Прогулка — маленькими маленькими шагами —
Все свободные
Семь холмов.
Будет ваша очередь.
И — дочери
Ласково горько сдашь Москву
Ласково.
Мне — сон желающий, колокольчики колокольчики,
Ранние зори
В Ваганькове.
Поэма открывается с высоты птичьего полета на Москву. Цветаева «поднимает» свою «лучшую ношу» а.к.а. Ариадна — жест, который одновременно знакомит ребенка с мегаполисом и позволяет ей оценить свое будущее наследие, «чудесный город», в котором ее мать живет и пишет. Глагол здесь, возносить ‘, чаще используется в клише возносить’ молитву , чтобы «возвысить молитву», и это больше, чем намек на священное в данный момент. Этот тон поддерживается и более поздним выбором слов, например, использованием старославянского град вместо русского город для «города» и архаичного местоимения сем вместо современного етом .
Мысли Цветаевой обращены к будущему. Во второй строфе она воображает, что остается проводником и опекуном для своего уязвимого, похожего на «молодое деревце» ребенка, что бы ни случилось. Даже смерть не помешает ей выполнить свой долг. Она защитит ее от зла («царь тебя»), она разделит свои печали («скорблю о тебе»), и она разделит свои самые счастливые моменты ( принимать венец , сокращенно «взять венок» ссылка на православный обряд бракосочетания).
Конечно, ей остается только надеяться, а не гарантировать, что она всегда будет рядом.В третьей строфе она напрямую обращается к Ариадне. Сначала она дает практический совет («Поститься перед причастием») и говорит ей уважать власть («почитай все сорок / Времена сорок церквей» — пресловутое количество церквей в Москве). Как будто она видит в Церкви возможного суррогатного родителя на случай, если с ней что-нибудь случится. Наконец, она осмеливается перейти от наставника и защитника к наставнику. Она велит дочери исследовать и блуждать по семи холмам , , семи холмам Москвы.Она должна быть «свободной», чтобы наслаждаться городом, открывать его чудеса и, по сути, занимать место своей матери в качестве горожанина. Такое блуждание рискованно — а кто хочет подвергать риску своего ребенка? — но дочери становятся взрослыми, и нужно отпустить.
Это готовит почву для последней строфы. Цветаева снова ставит вопрос о собственной смертности. Однако на этот раз она может позиционировать себя внутри женского рода. Когда-нибудь Ариадна «нежно и горько» будет размышлять о будущем собственной дочери.Цветаеву похоронят на Ваганьковом кладбище в Москве, где, как известно, похоронена ее мать Мария Александровна Мейн, пианистка концертного уровня. Утешенный этим видением матриархальной традиции, поэт сможет «добровольно» пойти к своему вечному сыну , ее «вечному сну». У каждой женщины в семье Цветаевых будет свой черед, , ее «очередь» бродить ( исходит ‘) и наслаждение, прежде чем передать ( передат ‘) новому поколению ключи от царства ( цареват). ‘).
Жизнь моей сестры не похожа на жизнь Цветаевой, и в них мало общего, кроме честности, самоуверенности и сатирической жилки. Я бы через тысячу лет не пожелал своей племяннице ужасных невзгод, которые пережила Ариадна Эфрон (голод, ссылка, политические преследования, преждевременная бессмысленная смерть обоих родителей и ее младшей сестры Ирины). Но стихотворение «Облака вокруг» помогает брату-ламмоксу задуматься о том, чего он никогда не испытает, — об отношениях между матерями и дочерьми и о загадках дочерей, у которых затем своя очередь материнства.
Биография Марины Цветаевой | Русская поэзия
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941) выросла в Москве. Ее отец был профессором изобразительных искусств, основавшим Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а мать была пианисткой. Марина Цветаева была вундеркиндом и полиглоткой. В возрасте 6 лет она начала писать стихи и брала уроки игры на фортепиано. В 16 лет она училась в Сорбонне в Париже и примерно в то же время начала писать стихи на французском и немецком языках.В 18 лет Цветаева издала свой первый сборник стихов — Вечерний альбом, — сборник исповедальных стихов, посвященный темам, которые ранее не обсуждались открыто в русской поэзии.
В 1912 году вышла замуж за Сергея Ефрона; у них родились две дочери, а позже — сын. Ефрон присоединился к Белой армии, и Цветаева была отделена от него во время Гражданской войны. Во время московского голода Цветаева была вынуждена отдать дочерей в государственный детский дом, где младшая Ирина умерла от голода в 1919 году.
Ее самая ранняя работа посвящена важности пола в построении идентичности, вызову женщины-поэтессы в обществе и защите права человека на самовыражение. Ее талант не был широко известен при ее жизни, однако в сборниках Mileposts (1921, 1922) она раскрыла свою способность умело надевать словесные маски. В ее небольшом собрании Разлука 1922) отмечены такие отличительные черты стиля Цветаевой, как полифония, дивная игра на чистом звуке, звукоподражание, парономазия.Между 1918 и 1920 годами она писала стихи, восхваляющие Белые армии и их борьбу с большевизмом. В эти годы были созданы стихи The Swans ’Demesne (1917-1921, опубликовано в 1957 году).
В 1922 году она эмигрировала с семьей в Берлин, затем в Прагу, а в 1925 году поселилась в Париже. В Париже семья жила в бедности. Сергей Эфрон работал на советскую тайную полицию, и хотя трудно установить, насколько Цветаева знала о политических сделках Эфрона, все же общепризнанно, что она должна была знать более широкую картину.
Позже, в 1930-е годы, в своей зрелой прозе она сосредоточилась на притворщиках, бунтовщиках и самозванцах, будь то артистические или политические деятели, такие как Пугачев или Маяковский. В годы лишения и ссылки поэзия и общение с поэтами поддерживали Цветаеву. Она переписывалась с Райнером Марией Рильке и Борисом Пастернаком, а работу посвятила Анне Ахматовой.
В политически чувствительной атмосфере ее времени заявления Цветаевой об аполитичности и борьбе за личную свободу и толерантность постоянно неправильно понимались.В 1930-е гг. Эмигрантская община Парижа сторонилась ее. К сожалению, ее попытки бросить вызов идеологической ограниченности, будь то красный или белый, и ее нежелание идти на компромисс со своими идеалами и этической концепцией поэтической задачи, были восприняты как свидетельство ее противоречивой, ненадежной политики, а не как свидетельство ее этической защиты. ценности индивидуальности. С 1935 года Цветаева постоянно боролась с в основном негативной реакцией на ее работу в эмигрантских кругах.В отчаянии она в конце концов решила поддержать Эфрона, несмотря на его действия в качестве советского агента, и в конце концов даже последовала за ним в Россию. В 1939 году Цветаева вернулась в Советский Союз. Когда немецкая армия вторглась в СССР, Цветаева была эвакуирована в Елабугу вместе с сыном. На тот момент трое из ее ближайших родственников — сестра Асия, дочь Алия и ее муж Сергей Эфрон — уже были арестованы. Она повесилась 31 августа 1941 года.
Источники
Биша, Робин. Русские женщины, 1698–1917: Опыт и выражение, антология источников . Издательство Индианского университета. 2002.
Карлинский, Симон. Марина Цветаева: женщина, ее мир и ее поэзия . Издательство Кембриджского университета, 1985.
Швейцер, Виктория, Чендлер, Роберт. Цветаева . Перевод Х. Виллетс. Лондон: Харвилл, 1995.
.
Марина Цветаева. Русские стихи в переводах
Цветаева, одна из гигантов русской и мировой поэзии, была наделена блестящим поэтическим даром, постигшим самую грубую и суровую судьбу.Ее отец, сын сельского священника, был профессором Московского университета и основателем Московского музея изобразительных искусств. Ее мать немецкого и польского происхождения была пианисткой, училась у Антона Рубинштейна. В гимназические годы она часто путешествовала по Франции, Италии, Германии и Швейцарии. Ее первый сборник стихов «Вечерний альбом» вышел в свет в 1910 году.
Если Анна Ахматова — хранительница классических традиций, то Цветаева — новатор, равный по взрывной силе, пожалуй, только Владимиру Маяковскому.Ее поэзия — могучая Ниагара страсти, боли, метафор и музыки. Он содержит элементы заклинаний и причитаний русской старины; у него мускулистость борца. Смысловые перегибы и неожиданные ритмические прыжки — молниеносная подпись Цветаевой. Даже ее интимные тексты проникнуты свирепым симфоническим качеством, выходящим за рамки камерной музыки, которые обычно ассоциируются с такой поэзией. Ее гений проявляется также в ее прозе, статьях, переписке и личном поведении.
В 1919 году Цветаева за три месяца создала длинное (150 страниц) стихотворное повествование под названием Царь-девица (Дева-Царь), основанное на известной русской народной сказке; ее замечательная художественная сила сделала ее, по сути, настоящей Девой-царем русской литературы. Она последовала за своим мужем Сергеем Эфроном в эмиграцию в Париж в 1922 году. Ее гордость не позволяла ей приспособиться к эмигрантским кругам, и она не нашла понимания в России после того, как она и ее семья вернулись в 1937 году в разгар Большого террора. .Ее муж был арестован и расстрелян; ее сестра была арестована и заключена в тюрьму; ее дочь была арестована, ей суждено было провести девятнадцать лет в трудовых лагерях. Цветаева была эвакуирована во время Великой Отечественной войны в Елабугу, на реке Кама, недалеко от Казани, и повесилась там в момент отчаяния и одиночества. Цветаева оказала огромное влияние на поэзию как мужчин, так и женщин. Ее стихи сейчас широко публикуются на ее родине.
Эта судьбоносная русская поэтесса, наполненная романтикой и революциями, любила и жила трагически | Нина Рената Арон
«Два с половиной дня — ни кусочка, ни ласточка», — писала русская поэтесса Марина Цветаева в октябре 1917 года, когда поезд вез ее из Крыма обратно в ее родную Москву, чтобы посмотреть, что там. слева от него.За несколько дней до этого большевики подняли восстание против шаткого Временного правительства в России, положив начало революции. «Солдаты приносят газеты — напечатанные на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны », — продолжила она. «Дом, где кадеты и офицеры отказывались сдаваться, взорван. 16000 убиты. На следующей станции до 25000. Я не говорю. Я курю.»
Цветаева тогда не могла знать, что переживает одно из самых значительных потрясений в истории своей страны и ХХ века.Как и большинство ее соотечественников, она мало что знала. Русская революция ворвалась в жизнь Цветаевой так же, как и для многих, особенно выходцев из аристократии, — сразу поставив под сомнение состояние ее дома, средств к существованию и будущего. Поразительный размах террора и дестабилизации, вызванных революцией, особенно очевиден в жизни Цветаевой, и она станет одним из самых ярких и страстных голосов в русской литературе.
В то время она навещала свою сестру Анастасию и боялась, что вернется в Москву и найдет своего мужа и двух дочерей, которым тогда было четыре года и шесть месяцев, ранеными или мертвыми.Они были в порядке, хотя это событие безвозвратно изменило бы всю их жизнь. Вскоре после революции муж Цветаевой, уже военный офицер, присоединился к антибольшевистской Белой армии, которая продолжит кровавую гражданскую войну против красных. Цветаева не видела его четыре года, и первые три года от него не было вестей.
Внезапно Цветаева оказалась обездоленной и одинокой в пугающей новой реальности с двумя маленькими детьми, ее семейный дом «разобрали на дрова».Как художник и член аристократии, у нее никогда не было подработки, но теперь она устроилась на работу в Наркомнац, где ворчливо встретила удивительно разнообразный состав новых советских граждан. Работа длилась недолго. Цветаева часто писала в течение этого периода, вела тетради и дневники, в которых она записывала головокружительные преобразования политической и повседневной жизни, происходящие вокруг нее. Эти записи собраны в томе Earthly Signs: Moscow Diaries 1917–1922 , который вскоре будет переиздан New York Review Books.Взятые вместе, записи являются мощным напоминанием о том, что искусство может спасти вас, или убить, или и то, и другое.
Марина Цветаева, 1892–1941. (Fine Art Images / Heritage Images через Getty Images)
Как пишет переводчик Джейми Гэмбрелл во введении к сборнику, дневник предлагал Цветаевой как свободу работать вне любых литературных условностей или профессионального давления, так и структуру, необходимую ей для опоясания полный хаос послереволюционной жизни. Она включает в свои дневники воспоминания о своей юности, обрывки разговоров с детьми и друзьями, размышления о поэзии, наблюдения и критику быстрых изменений в российской столице и языке, а также вызывающие воспоминания отрывистые взгляды на повседневную жизнь, как утверждает Гамбрелл. являются не просто биографическим содержанием, но «сами по себе являются выдающимся историческим документом.Один отрывок, описывающий очевидный набег, гласит: «Крики, крики, звон золота, старушки с непокрытыми головами, изрезанные перины, штыки… Они обыскивают все». Несколькими страницами позже: «Рынок. Юбки — поросята — тыквы — петухи. Умиротворяющая и завораживающая красота женских лиц. Все темноглазые и все в ожерельях ».
Она резко пишет о собственном одиночестве и отчуждении. «Я со всех сторон изгой: для хама я« бедняк »(чулки дешевые, без бриллиантов), для хама« буржуа », для свекрови -« бывшая », для Красные солдаты — гордая, короткошерстная барышня.О покупках она пишет: «Продуктовые магазины теперь напоминают витрины салонов красоты: все сыры — аспики — торты — ни на йоту не живее восковых кукол. Тот самый легкий ужас ». И о ее собственной бедности, все еще мрачно ошеломляющей новизны: «Я живу и сплю в одном и том же ужасающе сморщенном коричневом фланелевом платье, сшитом в Александрове весной 1917 года, когда меня там не было. Все в дырах от падающих углей и сигарет. Рукава, собранные на резинке, закатываются и застегиваются английской булавкой.
Она брала крохотные подачки от друзей, частичную работу там, где она могла их получить, и получала гроши то тут, то там за то, что читала свою работу вслух. В конце концов, она отправила свою младшую дочь Ирину в государственный детский дом, думая, что ее лучше накормят. Вскоре ребенок умер от голода, еще больше погрузив Цветаеву в смятение и горе.
Цветаева родилась в 1892 году в семье профессора искусств Московского университета и пианистки. До того, как ей исполнилось 20 лет, она впитала в себя многое из мира.Она была заядлым и всеядным читателем, особенно интересовалась литературой и историей, а подростком училась во Франции и Швейцарии. В детстве семья жила за границей, ища более справедливый климат и санатории, чтобы лечить туберкулез матери Марины, убивший ее в 1906 году.
Союз родителей Цветаевой был вторым браком для ее отца, который впоследствии основал то, что сейчас известный как Пушкинский музей, и для ее матери, у которой до этого были серьезные отношения.По большому счету, этих двоих преследовала их прошлая любовь, от которой они так и не оправились. У Цветаевой и ее сестры было двое сводных братьев и сестер от первого брака ее отца, с которыми ее мать никогда не ладила.
Это, пожалуй, одна из причин, по которой Цветаева на протяжении всей жизни оставалась почти фанатичной поклонницей любви во многих ее проявлениях. Как пишут Оксана Мамсымчук и Макс Розочинский в Los Angeles Review of Books , несмотря на полную трагедий жизнь, Цветаева «сохранила детскую способность любить» и написала в своем стихотворении Letter to the Amazon, «Love» само детство.
Она страстно погрузилась в то, что ее муж Сергей Эфрон в письме другу назвал «ее ураганами», продолжая бессчетные эпистолярные романы и полномасштабные эротические романы. «Важно не , что , а , как, », — продолжил Эфрон. «Не суть или источник, а ритм, безумный ритм. Сегодня — отчаяние; завтра — экстаз, любовь, полное самоотречение; а на следующий день — снова отчаяние ».
Она познакомилась с Сергеем Эфроном в Коктебеле, своего рода приморской колонии художников в Крыму в 1911 году.Эфрон, тоже поэт, обладал той трагедией, которую, кажется, тяготела к Цветаевой. Он был шестым из девяти детей. Его отец, работавший страховым агентом, умер, когда он был подростком. Год спустя один из его братьев покончил с собой. Его мать, узнав о смерти сына, покончила с собой на следующий день.
Софья Парнок была возлюбленной и музой Цветаевой в России. (Wikimedia)
Цветаева и Ефрон быстро полюбили друг друга и на следующий год поженились (оба были еще подростками), хотя Цветаева продолжала вести дела, в первую очередь с поэтом Осипом Мандельштамом, о котором она написала «Вехи», цикл стихи часто считались ее лучшими.Любовь, которую любила Цветаева, временами сродни детству, а временами бурная и мучительная, возможно, лучше всего проиллюстрирована в другом ее значительном романе с поэтессой Софьей Парнок. Цветаева написала цикл стихов «Подруга» о Парноке (преподнося ее ей в подарок), ее тон чередовался между игривым, насмешливым и жестоким. Парнок, со своей стороны, писал стихи, предсказывая кончину пары. По словам русского литературоведа Дайаны Льюис Бургин, их страсть, «похоже, была одной из тех, что подпитывались влечением к собственной гибели.
В 1922 году Цветаева покинула СССР со своей выжившей дочерью и воссоединилась с Эфроном в Берлине. Затем семья переехала в Прагу. В 1925 году она родила сына Георгия. Летом 1926 года Цветаева срочно, лихорадочно переписывалась с двумя титанами европейской литературы — Борисом Пастернаком и Райнером Марией Рильке. В этих коротких, ярких отношениях (Рильке умер в 1926 году; Цветаева и Пастернак продолжали писать друг друга) та же неудержимая и мучительная искра, та же одержимость навязчивой идеей, которая характеризует большую часть биографии и поэзии Цветаевой.
Она провела 1930-е годы в основном в Париже, демонстрируя то, что русская писательница Нина Берберова называет «особой мерзостью парижских художников и поэтов в период между двумя войнами». Она заболела туберкулезом и жила на небольшую стипендию художника от чешского правительства и все, что могла заработать, продавая свои работы. Она написала Пастернаку о своем отчуждении, сказав: «Они не любят поэзию и что я, кроме этого, не поэзии, а того, из чего она сделана. [Я] негостеприимная хозяйка.Молодая женщина в старом платье ».
За исключением учебников истории, революции не суммируются точно. Скорее, они исходят бесчисленным множеством способов. Несмотря на то, что они жили за границей, семья Цветаевой столкнулась со всей батареей советских ужасов. Эфрон и выжившая дочь пары Ариадна тосковали по СССР и в конце концов вернулись в 1937 году. Эфрон к тому времени работал в НКВД (советские силы безопасности до КГБ), как и жених Ариадны, шпионивший за семьей. Обвиненные в шпионаже в разгар сталинского террора, оба были арестованы.Эфрон был казнен в 1941 году. Ариадна была приговорена к восьми годам колонии. Еще около десяти лет она провела в тюрьмах и в ссылке в Сибири. Сестра Цветаевой Анастасия также попала в тюрьму; она жила, но они никогда больше не виделись.
«ИСТИНА — ЭТО ПЕРЕГОВОР», — написала Цветаева много лет назад в письме другу.
В 1939 году Цветаева также вернулась в свой родной город Москву, но ее перевели в Елабугу, небольшой городок в Татарстане, чтобы избежать наступления немецкой армии.Писательница Нина Берберова вспоминает, как видела Цветаеву незадолго до ее отъезда в Москву в 1939 году на похоронах другого поэта в Париже. О встрече она пишет: «У нее были седые волосы, серые глаза и серое лицо. Ее большие руки, грубые и грубые, руки уборщицы, были сложены на животе, и у нее была странная беззубая улыбка. И я, как и все, прошел мимо, не поздоровавшись с ней ».
Два года спустя, еще в Елабуге, Цветаева покончила с собой. Она оставила письмо своему 16-летнему сыну (который был призван в армию и погиб в бою в течение нескольких лет), в котором говорилось: «Простите меня, но было бы только хуже.Я серьезно болен, это уже не я. Я люблю тебя безумно. Поймите, что я больше не могу жить. Скажи папе и Але, если увидишь их, что я любил их до последней минуты, и объясни, что я зашел в тупик ». Ее похоронили в безымянной могиле.
Воскресная поэма: Марина Цветаева — чтение Ильи Каминского и Жана Валентина
[ребенок] не умер окончательно, а все же (во мне) — жил. Вот почему ваш Рильке не упомянул мое имя. Назвать [позвонить / говорить] — значит разобрать: отделить себя от вещи.Я никого не назову — никогда ». Как отмечает Каминский, молчание Цветаевой — примечательный факт: «Марина Цветаева, поэт, столь одержимая русским языком, русский поэт своего поколения, поэт, писавший элегии для всех, в том числе для живых, на своей элегии. в данный момент, чтобы говорить, выбрал , а не ».
Сергей Ефрон и Марина Цветаева
Для Цветаевой поэтика была не только политической, но и сугубо личной. Она не столько переводила, сколько переписывала Рильке, Пушкина, Шекспира и Лермонтова.По словам Камински, «ученые называют ее лучшую переводческую работу — ее вариант« Путешествие »Бодлера — произведением, переведенным« не с французского на русский », а с« Бодлера на Цветаеву »».
И это в какой-то мере то, как Каминский и Валентин подошли к самой Цветаевой. «Подражание звукам Цветаевой дает именно это: попытку имитации, которая не может подняться до уровня оригинала», — пишет Каминский.
«Переводить — значит жить. Значение слова ekstasis — стоять вне своего тела.Мы этого не требуем. (Хотелось бы, чтобы мы могли, когда-нибудь.) Жан Валентайн и я утверждаем, что мы два поэта, которые полюбили третьего и провели два года, читая ее вместе … Эти страницы — фрагменты, заметки на полях. «Сотрите все, что написали, — говорит Мандельштам, — но сохраните примечания на полях».
Это «дань уважения» Цветаевой запечатлевает моменты, линии и фрагменты, как талантливый художник запечатлевает человека с помощью нескольких удачно нанесенных штрихов углем. Как понимают художники, точный рендеринг — не всегда лучший способ запечатлеть человека, сцену или идею.Важнее всего не полнота или точность, а интуиция, сочувствие и хитрость. И в этом смысле Dark Elderberry Branch блестяще преуспевает.
Эта необычная книга не только позволяет нам сесть за стол напротив одного из величайших поэтов России, но и пользоваться этой привилегией, имея рядом двух одаренных гидов — гидов, которые сами по себе являются гениями языка. Было бы упущением не остановиться и не пододвинуть стул.
из Стихи для Блока
Тебя зовут — птица в моей руке,
кусок льда на моем языке.
Быстрое раскрытие губ.
Ваше имя — четыре буквы.
Мяч, пойманный в полете,
Серебряный колокольчик во рту.
Камень, брошенный в тихое озеро.
— это звук вашего имени.
Легкий стук копыт ночью
— ваше имя.
Ваше имя у моего виска
— резкий щелчок взведенного пистолета.
Твое имя — невозможно —
поцелуй в глаза,
холод закрытых век.
Твое имя — поцелуй снега.
Голубой глоток ледяной родниковой воды.
С твоим именем — сон углубляется.
15 АПРЕЛЯ 1916
Покушение на Ленина
Вечер того же дня. Мой сосед по комнате, коммунист Зак, ворвался в кухню
:
«А вы счастливы?»
Я смотрю вниз — конечно, не из робости: боюсь его обидеть. (Ленин
расстрелян. Белая Армия вошла в город, все коммунисты
повешены, первый среди них Зак.) Уже чувствую щедрость
победившей стороны.
«А ты … ты очень расстроен?»
«Я?» (Дрожь в плечах.) «Для нас, марксистов, не признающих
личностей в истории, это, вообще говоря, не важно — Ленин
или кто-то еще. Это вы, представители буржуазной культуры »(новый спазм
г.),« с вашими Наполеонами и вашими Цезарем »(дьявольская улыбка),
». . . но для нас, нас, нас, вы понимаете. . . Сегодня это Ленин, а завтра
—
.
Обиженный за Ленина (!), Промолчу.Неловкая пауза. А потом,
быстро-быстро, он говорит:
“—Марина, у меня есть сахар, три четверти фунта,
мне не надо; может, вы бы приняли его для своей дочери? »
ДЕНЬ , МОСКВА, 1918-19
из Попытка ревности
Как твоя жизнь с этим другим?
Проще, правда? Весла
и длинная береговая линия —
и память обо мне
.
скоро станет дрейфующим островом
(не в океане, а в воздухе!).
душ — вы будете сестрами —
сестер, а не любовниц.
Как твоя жизнь с обычной
женщиной? Без бога внутри нее?
Королева вытеснена —
Как ты дышишь сейчас?
Вздрагиваешь, просыпаешься?
Что ты делаешь, бедняга?
«Истерики и перебои —
хватит! Я сниму собственный дом! »
Как твоя жизнь с этим другим,
ты, моя собственная.
Вареное яйцо на завтрак?
(Если заболеете, не вините меня!)
Как живется с открыткой?
Ты, стоявший на Синае.
Как твоя жизнь с туристом
на Земле? Ее ребро ( или вы ее любите?)
— по вашему вкусу?
Это жизнь? Ты кашляешь?
Вы напеваете, чтобы заглушить мышей в уме?
Как живете с дешевыми товарами: рынок растет?
Как целовать гипсовую пыль?
Тебе наскучило ее новое тело?
Как дела с земной женщиной
без шестого чувства?
Ты счастлив?
Нет? В неглубокой яме — как твоя жизнь,
мои возлюбленные.Как мой
с другим мужчиной?
1924
из Стихи для Ахматовой
Я не отстану от тебя. Я охранник.
Ты — пленник. Наша судьба такая же.
И вот в той же открытой пустоте
нам приказывают так же — Уходи.
Итак, я ни к чему не опираюсь.
Я это вижу.
Отпусти меня, мой пленник,
подойти к той сосне.
ИЮНЬ 1916
Таинственное исчезновение на Тверской,
фотографа, который долго и упорно фотографировал (бесплатно) советскую элиту.
СЛЕДЫ ЗЕМЛИ , 1919-20
Не так давно в Кунцево я вдруг перекрестился, увидев дуб.
Очевидно, источник молитвы — не страх, а восторг.
СЛЕДЫ ЗЕМЛИ , 1919-20
Об Илье Каминском
Илья Каминский родился в Одессе (бывший Советский Союз) в 1977 году и приехал в США в 1993 году, когда его семье было предоставлено убежище от американского правительства.
Каминский — автор книги Dancing In Odessa (Tupelo Press, 2004), получившей премию писателя Уайтинга, премию Меткалфа Американской академии искусств и литературы, премию Дорсета и стипендию Рут Лилли, ежегодно присуждаемую фондом Poetry . журнал. Танцы в Одессе также был назван лучшим сборником стихов 2004 года журналом ForeWord Magazine . В 2008 году Камински был удостоен литературной стипендии Фонда Ланнана
.
Стихи из его новой рукописи, Deaf Republic , были удостоены премии Левинсона журнала Poetry и премии Pushcart.
Его переводная антология поэзии ХХ века, Ecco Anthology of International Poetry , была опубликована Харпер Коллинз в марте 2010 года.
Его стихи переведены на множество языков, а книги изданы в Голландии, России, Франции, Испании. Другой перевод готовится к печати в Китае, где его стихи были удостоены Международной поэтической премии Иньчуань.
Камински работал клерком в юридической службе Сан-Франциско и в Национальном центре иммиграционного права.
В настоящее время он преподает английский язык и сравнительную литературу в Государственном университете Сан-Диего.
Для получения дополнительной информации об Илье и его творчестве посетите его сайт.
О Джин Валентайн
Жан Валентайн (Фото Макса Гринстрита)
Джин Валентайн родилась в Чикаго, получила степень бакалавра искусств. из колледжа Рэдклифф и большую часть жизни прожила в Нью-Йорке. Она выиграла Йельскую премию молодых поэтов за свою первую книгу, Dream Barker , в 1965 году.Ее одиннадцатый сборник стихов , Разбить стекло (2010) от Copper Canyon Press, был финалистом Пулитцеровской премии в области поэзии. Дверь в гору: новые и сборники стихов 1965–2003 был лауреатом Национальной книжной премии 2004 года в области поэзии. Ее последняя книга — [Корабль] из Red Glass Books.
Валентайн была государственным поэтом Нью-Йорка в течение двух лет, начиная с весны 2008 года. В 2009 году она получила Премию Уоллеса Стивенса от Академии американских поэтов, приз в размере 100 000 долларов, который отмечает выдающееся и доказанное мастерство в искусстве поэзии.Валентин получил стипендию Гуггенхайма и награды от NEA, Института Бантинга, Фонда Рокфеллера, Нью-Йоркского совета искусств и Нью-Йоркского фонда искусств, а также премию Мориса Инглиша, Премию Тисдейла за поэзию, и Приз Мемориала Шелли Общества поэзии Америки в 2000 году. Она также была удостоена резиденций в Колони Макдауэлла, Яддо, Укроссе и Фонде Ланнана.
Валентин преподавал в колледже Сары Лоуренс, Программе письма для выпускников Нью-Йоркского университета, Колумбийского университета и на 92-й улице Y в Манхэттене.
Ее лирические стихи погружают в жизнь мечты с проблесками личного и политического. В New York Times Book Review Дэвид Калстон сказал о своей работе: «Валентин обладает даром резких странностей, но также сказочным синтаксисом и манерой выстраивать строки. . . короткие стихи, чтобы увлечь нас двойственностью и плавностью чувств ». В 2002 году в интервью Еве Грубин Валентин так прокомментировал свою работу: «Я иду к духовному, а не от него.«Помимо собственных стихов, она перевела произведения русского поэта Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой.
Для получения дополнительной информации о Жан Валентайн и ее работах посетите ее веб-сайт.
Обновление на диске членства Gwarlingo
Спасибо всем читателям, которые внесли свой вклад в Gwarlingo Membership Drive. Вместо того, чтобы продавать рекламодателям, я вместо этого «продаю» своим читателям! На данный момент более 115 читателей Gwarlingo внесли свой вклад, и было собрано 11 500 долларов из запланированной суммы в 15 000 долларов.Если вы еще не сделали пожертвование, вы можете посмотреть мое видео и все награды для участников, включая некоторые работы ограниченного выпуска, здесь, на сайте Gwarlingo.
Будьте в курсе последних новостей поэзии, книг и искусства, доставив Gwarlingo на ваш почтовый ящик. Это просто и бесплатно! Вы также можете следить за Гварлинго в Twitter и Facebook.
Просмотрите всех воскресных поэтов Гварлинго в Указателе воскресных стихов.
Все стихи © Илья Каминский, Жан Валентин и Марина Цветаева.Эти стихи были опубликованы с разрешения авторов и Alice James Books. Все права защищены.
Марина Иванова Цветаева — Стихи известного поэта
Марина Цветаева родилась в Москве. Ее отец, Иван Цветаев, был профессором истории искусств и основателем Музея изящных искусств. Ее мать Мария, урожденная Мейн, была талантливой концертной пианисткой. Семья много путешествовала, Цветаева посещала школы в Швейцарии, Германии и Сорбонне в Париже.Цветаева начала писать стихи в раннем детстве. Дебютировала как поэтесса в 18 лет со сборником «Вечерний альбом», посвященным ее детству.
В 1912 году Цветаева вышла замуж за Сергея Ефрона, у них родились две дочери и один сын. «Волшебный фонарь» продемонстрировала свое техническое мастерство, и в 1913 году за ней последовала подборка стихов из ее первых сборников. Роман Цветаевой с поэтессой и оперным либреттистом Софией Парнок вдохновил ее на цикл стихов «Подруга». Карьера Парнок остановилась в конце 1920-х, когда ей запретили публиковаться.Стихи, написанные между 1917 и 1921 годами, появились в 1957 году под названием «Владения лебедей». Вдохновленная отношениями с бывшим офицером Красной Армии Константином Родзевичем, она написала «Поэму о горе» и «Поэму о конце».
После революции 1917 года Цветаева на пять лет была в ловушке в Москве. Во время голода одна из ее собственных дочерей умерла от голода. Поэзия Цветаевой свидетельствует о ее растущем интересе к народным песням и приемам ведущих символистов и поэтов, таких как Александр Блок и Анна Ахматова.В 1922 году Цветаева эмигрировала с семьей в Берлин, где воссоединилась с мужем, а затем в Прагу. Это был очень продуктивный период в ее жизни — она опубликовала пять сборников стихов и ряд повествовательных стихов, пьес и эссе.
За годы пребывания в Париже Цветаева написала две части запланированной драматической трилогии. Последний прижизненный сборник «После России» вышел в 1928 году. Его тираж в количестве 100 нумерованных экземпляров продавался по специальной подписке. В Париже семья жила бедно, доход почти полностью приносил сочинения Цветаевой.Когда ее муж начал работать в советской службе безопасности, русская община Парижа выступила против Цветаевой. Ее ограниченные возможности публикации стихов были заблокированы, и она обратилась к прозе. В 1937 году вышло одно из лучших прозаических произведений Цветаевой — «МОЙ ПУШКИН». Чтобы заработать дополнительный доход, она также писала рассказы, мемуары и критические статьи.
В ссылке Цветаева чувствовала себя все более изолированной. Без друзей и почти разоренная она вернулась в Советский Союз в 1938 году, где уже жили ее сын и муж.В следующем году ее мужа казнили, а дочь отправили в трудовой лагерь. Цветаева была официально подвергнута остракизму и не могла публиковаться. После вторжения в СССР немецкой армии в 1941 году Цветаева вместе с сыном была эвакуирована в провинциальный городок Елабуга.
